Культурный проект «Родная речь»
Проза
Литературное творчество жителей юга России
Высокая жёлтая нота

Лариса Новосельская
Через три дня после смерти жены Олег Степанович, мощный красивый старик с генеральской выправкой, пришёл к Инне Николаевне с предложением руки и сердца.
Инна Николаевна ожидала от него всего, чего угодно, но это было слишком!
– Как? – всплеснула она руками. – Как это умерла? Я же её видела на прошлой неделе при полном параде, завитой и подкрашенной...
– В одночасье… – употребил Олег Степанович забытое выражение и старомодно приложил руку к груди в районе сердца. Жест показался убедительным, но сбитая с толку Инна Николаевна требовала подробностей и объяснений.
– Как-то я рассказывал вам про экстрасенса... – неохотно и загадочно начал старик.
– Помню...
– Так вот, он сказал, что внуков у неё нет, потому что она не освобождает для них места на земле...
– Какая чушь! Ну и что, она после этого вот так просто решила умереть и умерла?
– Если вы помните, Елена Сергеевна была дамой мужественной...
Проговаривая этот странный текст, Олег Степанович стоял, высоко подняв голову и сложив на груди руки. Глаза его горели вдохновением. Или в них блестели слёзы? Инна Николаевна, за годы знакомства привыкшая к самым сумасбродным розыгрышам, с облегчением схватилась за трубку задребезжавшего телефона и долго кричала в него, стараясь не смотреть на живое изваяние посреди кабинета.
...В прошлой жизни старик был актёром. «Жан-премьер, известный по провинциям», – говорил он об этом как о случайном эпизоде в своей пёстрой и безалаберной жизни. Но, судя по количеству пожелтевших театральных афишек, выпадающих из рассохшегося шкафа в его «нехорошей» квартире, роман со сценой тянулся лет сорок. Только проходил он далеко от здешних мест. Что не мешало дамам особо приближённым, из тех, кого Олег Степанович называл «тургеневскими девушками бальзаковского возраста», воображать его живым персонажем Островского – обаятельным и беспутным Григорием Несчастливцевым.
Официально же, если это слово хоть как-то лепится к этой необузданной натуре, он считался в южном, засаженном акациями, когда-то тишайшем, а ныне ревущим моторами и кадящим дымами южном городе художником. Не чета, конечно, местным знаменитостям, на все лады переписывающим пейзажи с казачьими хуторами или натюрморты с кринками и жбанами кваса, но числящимся в свои восемьдесят с чем-то лет подающим большие надежды.
Смирнов терпеть не мог грунтовать холст, да и пенсии ему на холсты не хватало. Поэтому писал он то на оборотной стороне лозунга «Вперёд, к победе коммунизма!», то на станине от старой швейной машинки, то на сиденье сломанного стула.
Вот с таким стулом он однажды и предстал перед Инной Николаевной – хозяйкой небольшой картинной галереи, точнее салона, которая хоть и слышала о художниках-передвижниках, а также французских импрессионистах, образование имела самое прозаическое – финансовое. Поэтому на стул воззрилась с большим недоумением и уже подумывала позвать секретаршу на помощь. Но… прошло пять минут, лёд был растоплен, рука, протянутая для пожатия, расцелована, а из соседней комнаты всё-таки вынесен дымящийся кофейник – знак гостеприимства.
– Вы знаете, как обходиться в квартире без ремонта? – продолжал ораторствовать Смирнов, в душе уже праздновавший свою победу. – Вешать на стены картины, много картин! А снам верите? Знаете, что Паганини сочинил свою лучшую сюиту «Дьявольские трели» во сне? Я, кстати, вынашиваю замысел романа «Сны мудрецов», со своими иллюстрациями... – балагурил Олег Степанович, и строгая Инна Николаевна не смогла устоять перед обаянием старика – заулыбалась.
Даже устроила в центральной городской галерее его персональную выставку с кокетливым названием «Мы с Ван Гогом нигде не учились». Кособокие, без рам, картины смотрелись на белых глянцевых стенах диковато, как и сам виновник торжества, не снявший в гардеробе ни старой шинели, ни казачьей фуражки с красным околышем. После жиденькой церемонии открытия, на которой обозначился всего один букет – жене и музе, Смирнов тут же покинул выставку, прошагав через зал широко и стремительно, как царь Пётр на известной картине. Сыграл роль гения, не дождавшись подтверждения и не услышав оваций.
...Серьёзные клиенты, конечно, работами не заинтересовались – мыслимо ли повесить в офисе солидного банка рамку из обуглившихся головёшек или колючей проволоки?
Знатоки же, местная богема, поохала, позвенела мелочью в карманах и разошлась восвояси. К тому же картинами Смирнова был снабжён весь ближний круг – художник имел привычку раздаривать их ещё непросохшими.
В галерее после выставки остались удачный автопортрет, выполненный на ржавом противне от старой духовки и триптих «Адам и Ева» – на обороте устаревшего призыва «Пятилетку – в четыре года!». Несмотря на застойную изнанку, работы светились такими живыми и свежими красками, что заезжие эксперты оценили их как юношеские. «Согласитесь, ну не может старый человек так ярко видеть мир!»
– А как же Ван Гог? – осмеливалась возразить столичным критикам Инна Николаевна.
– Ван Гог умер тридцати семи лет от роду. А вашему Смирнову, вы говорите, сколько?
Она не решалась его спросить, но, учитывая то, как ловко и без тени сомнения в своём обаянии обходился он с дамами, это было не суть неважно. Да и при чём тут возраст, когда налицо редчайший по нынешним временам мужской талант? Он, как всякий божий дар, с годами не убывает, а только растёт. Одним дамам Смирнов читал стихи, других норовил как-то ненароком, но очень выразительно обнять, третьим раскрывал секреты красоты: «Запомните: если пудра, то с блеском! Лицо – не маска, оно должно, как в молодости, переливаться и сиять! Свежесть, только первая свежесть! И хороши ещё румяна на мочках ушей…»
…Инна Николаевна невольно взглянула на себя в зеркало – в порядке ли она? У него ведь глаз острый.
– Так как вы смотрите на моё предложение? – Олег Степанович по-прежнему стоял у стола. Он никогда не садился без приглашения.
– Да сядьте же, наконец! – прикрикнула на него Инна Николаевна. Кричала она на всех, но на Смирнова всегда чуть громче и чуть кокетливее. А что? Разве точная копия Франчески Гааль, как утверждал старик, не может эту вольность себе позволить? Кстати, эту Франческу Инна Николаевна в глаза не видела – та снялась в кино ещё до нашей эры, но к чему же отрицать такое лестное сходство?
– Конечно, вы человек творческий, вам многое прощается, – издалека начала она, когда гость присел на краешек стула. Но надолго её дипломатии не хватило:
– Ну, нельзя же так!
– Как? – казалось, искренне удивился старик.
– Нет, ну вы смеётесь... – даже покраснела от гнева Инна Николаевна. – Допустим, Елена Сергеевна умерла. Хотя странно... Но от вас двоих можно всего ожидать. Допустим, умерла... – повторила она, прислушиваясь к странной мелодике этого слова. – Так что же? Не то, что пары башмаков не сносить, но ещё и помянуть, как следует, и уже бежать к другой женщине. Да это просто... неприлично!
– Почему? – невинно, как ребёнок, спросил Олег Степанович. – Человек рождается одиноким и умирает в одиночестве. Это только неразвитые люди серьёзно считают, что им кто-то принадлежит. Жена мужу, муж жене. Впрочем, извините.
Он встал, отвесил поклон и направился к двери.
– Эх вы, рабы условностей! – добавил он, взявшись за дверную ручку, и только Инна Николаевна начала страдать и раскаиваться, сделал такую потешную мину, что она расхохоталась, потом спохватилась, сделала строгое лицо и, в конце концов, замахала руками:
– Идите уже, шут гороховый!
...Инна Николаевна никогда не была замужем и никогда не была одинокой. Раздвоение личности между финансами и романсами всегда приводило её к печальной развязке. Один возлюбленный был гений со всеми вытекающими отсюда последствиями, другой женат, третий – пьяница. Кстати, Олег Степанович тоже употреблял, и зло. Жена его, Елена Сергеевна, терпеть не могла в доме гостей с бутылками. А к художникам ведь только такие и захаживают. Но она им воли не давала. Жаль только, недолго. Пять лет они вместе прожили, кажется. Жена смогла занять место в доме только после смерти древней, похожей на пиковую даму, старухи, матери Смирнова. Или это случилось чуть раньше? Инна Николаевна потёрла лоб, пытаясь вспомнить отголоски каких-то скандалов…
И тут же увидела запущенную, заваленную картинами, бумагами и пустыми тюбиками берлогу двух стариков, – молодящейся Елены Сергеевны, которая увлекалась то спиритизмом, то астрологией, а то, вот, на свою голову, экстрасенсами, и величественного, по-купечески щедрого Олега Степановича, награждающего каждого гостя эскизом, наброском, а то и целой картиной.
Елене Сергеевне не нравилась такая расточительность: то ли она надеялась выгодно распорядиться творческим наследием, то ли просто ревновала мужа. Олег Степанович знал эту её слабость, время от времени становился в позу и басом (Мефистофель! Люди гибнут за металл!) гудел:
– И обогатишься ты, раба божья, только после моей смерти. Знай, что художников ценят не современники, но потомки!
Елена Сергеевна после этой проповеди по-девичьи краснела, по-старушечьи, невзирая на полезные советы мужа, пудрила носик белой, как алебастр, пудрой, и убегала по астрологическим делам – она составляла гороскопы, и у неё была своя клиентура. «Лучше бы в квартире порядок навела, глядишь, меньше бы всяких бомжей и шарлатанов в неё попадало… – вслед ей, словно живой, мысленно послала упрёк Инна Николаевна и спохватилась:
– Ох, Господи, что ж я!
...В смирновской квартире царило ещё большее запустение, чем помнилось Инне Николаевне. В этом она убедилась через неделю, когда, терзаемая сомнениями, решилась навестить вдовца. Да и вдовца ли? Выдумывал же Смирнов сюжеты рассказов, которые обещал издать толстой книжкой или пьес – их были готовы поставить все театры страны – от местной оперетты до МХАТа. Жил он в бывшей коммуналке, которую соседи перекроили всяк на свою сторону и, как смогли, благоустроили. У Смирновых ванна, по какому-то странному раскладу, стояла в передней. Рядом ютилась газовая плита, на которой в данный момент кипело варево с тошнотворным запахом. Сам хозяин, одетый в жёсткую от грязи шинель, возлежал в кресле в живописной куче тряпья и являл собой последний кадр старого польского фильма «Пепел и алмаз», герой которого принимал мученическую смерть на свалке.
Тишину нарушал лишь мерный звук капели. Инна Николаевна подняла глаза к потолку – точно посередине, возле люстры, расплылось мокрое грязное пятно.
– О господи! – почти всхлипнула гостья. Таким зелёным и несчастным она Смирнова никогда не видела. Хотя бедная жена иногда расплывчато отвечала, что Олег Степанович не может подойти к телефону по причине лёгкого недомогания... А теперь вот... полюбуйтесь. Инна Николаевна попыталась сгрести веником бумажки, чтобы проложить тропинку в мусорных завалах, но старик, как Вий, поднял тяжёлые веки и мрачно приказал:
– Ничего не выбрасывайте, это мои записи. Интересно – полистайте.
«Мой последний дневник, – стала она в растерянности, не зная, как себя вести в такой ситуации, разбирать косые крупные буквы. – Сенека писал, что цель жизни каждого человека – самоусовершенствование. Можно идти к нему путём размышлений – самым достойным, подражаний – самым лёгким, и опыта – самым тяжёлым. Я, конечно, как и большинство людей, выбрал последнее. А вдруг, сам того не сознавая, иду путём подражания? Не дай Бог!»
На обороте шёл совсем другой текст: «Странная переписка у меня с сыном. Я ему пишу, но письма не отправляю. По телефону разговаривать не умею и не люблю. Сам никогда не звоню, а если он (вдруг!) позвонит, то у меня остаётся неприятный осадок от куцего разговора. Досада на себя: не так и не то говорю».
– У вас есть сын? – удивилась Инна Николаевна. – Где же он?
– В столице. Мы с ним не виделись лет двадцать. Он меня не очень жалует, и правильно делает. Плохой я отец...
– Конечно, плохой, если сын хоть раз имел счастье наблюдать вас в таком виде.
– Обычный для художника вид. Ищу высокую жёлтую ноту...
– Что?
Олег Степанович пожал плечами:
– Бизнесменам этого знать необязательно.
Говорил он с видимым усилием, и Инна Николаевна засуетилась насчёт чая, но старик только отмахнулся.
– Если хотите быть моим добрым ангелом, принесите любого спиртного. Слышите, любого!
Что-то в этой не просительной, но повелительной интонации заставило Инну Николаевну покорно побежать в соседний магазин и купить бутылку красного вина. Смирнов без удовольствия взглянул на этикетку, потом яростно ввинтил в пробку откуда-то возникший в этом хаосе штопор. Пил он прямо из горла, жадно, но не проливая ни капли.
Брезгливо отвернувшись, Инна Николаевна постояла минуту, а потом, не прощаясь, выскочила на свежий осенний воздух. Уже в своём кабинете она нащупала в кармане скомканные листочки, подобранные с пола, разгладила их и стала читать. Не из интереса, а просто чтобы успокоиться:
«На соседней улице два дня назад погибла старушка. Старушка уже не в первый раз сидела на тротуаре возле вековой акации, торговала семечками.
Автомобиль размазал старушку по стволу дерева. Это судьба или что?» Дальше, опять невпопад, совсем про другое: «Полина Виардо была знаменитой певицей, и потому её не знают, как композитора, значит, талант проглядели. Только Лист и Тургенев безуспешно пропагандировали музыку Виардо. И Михаил Врубель был сначала скульптор, а потом уж живописец. Леонид Андреев известен как писатель и совершенно неизвестен как художник. Все его полотна погибли в революцию. Бухарин и царь Николай тоже писали картины».
«В этом он весь, – уже с нежностью думала Инна Николаевна. – Делает вид, что ему не нужно признание, а сам страдает. Не уверен в себе, как мальчишка. А кто уверен? Я, что ли? А ведь ни на что не претендую, кроме как на заурядное бабье счастье. Которого тоже нет, как нет. Может быть, потому, что иду самым тяжёлым путём – своих ошибок?»
Она дотемна засиделась на работе. Домой не спешила, к Смирнову возвратиться не могла – из предательской брезгливости. Возможно, у неё не было вкуса, как иногда в пылу спора утверждал художник, но нюх, к сожалению, был. Вернее, обоняние, прямо-таки собачье, мешающее спокойно жить. Однажды Смирнов, заметив её непроизвольно сморщившийся при виде его несвежей шинели нос, заявил, что порога её салона больше не переступит.
Инна Николаевна тогда фальшиво рассмеялась и за рукав втащила гостя в свой кабинет, но это не решило её проблемы: она слышала, как даже самые ухоженные старички и старушки источают специфический аромат – запах старости, неизбежный и неотвратимый. И грустила потому, что прозревала тут и своё неизбежное будущее.
Следующий визит в нехорошую квартиру она нанесла через месяц, заинтригованная воркующим женским голосом в трубке: «Олега Степановича? Одну минутку, я позову его к телефону...»
В доме было прибрано. Страшный призрак коммуналки затаился в тёмных углах, а в лепных карнизах высоких стен, кованых узорах старинного балкона проступило нечто аристократически-величественное, под стать хозяину.
Расставленные по комнате картины, раньше скрытые марлей паутины, светились. Как и сам художник, выступивший в тесную переднюю вальяжно, словно барин на крыльцо дворянской усадьбы.
– Познакомьтесь: мой добрый ангел Лидия Ивановна, – церемонно поклонился Смирнов в сторону юркой черноглазой женщины, суетливо протянувшей руку гостье. Инна Николаевна поджала губы. «Неужели я ревную?» – спохватилась она.
Но посидела недолго – в присутствии чужих, как сразу определила она новую жену, говорить было не о чем. Быстро распрощалась, сухо пригласив Олега Степановича в галерею оценить новое поступление.
Он явился прямо на следующее утро, одухотворённый и сияющий.
Инна Николаевна, не церемонясь, напустилась на него, как старая ревнивая жена:
– Кто эта женщина?
Смирнов, казалось, очень обрадовался этому, почти семейному, скандальчику, хитро сощурился и даже откашлялся, приготовившись к длинному и красочному рассказу. Но как только Инна Николаевна узнала, что новый «ангел» – подруга той самой прорицательницы, которая свела Елену Сергеевну в могилу, мизансцена развалилась.
– А если они её отравили?! – ужаснулась Инна Николаевна. – Чтобы вашу квартиру забрать?! А вы уши развесили: ангел, ангел… Что-то много ангелов на квадратный метр вашей площади… Вы же умный человек, неужели всерьёз верите в смерть от предсказаний?
– Да нет, официально Леночка умерла от сердечного приступа... – оправдывался растерявшийся Смирнов.
– Ах, от приступа! Так что же вы мне голову морочили?!
…Инне Николаевне вдруг стало стыдно. «Какое право я имею распоряжаться? Кто я ему, в конце концов? Жалеешь старика – не кричи, а возьми над ним шефство. Как тимуровец...» Вот этот «тимуровец» показался ей таким смешным, что она успокоилась, напоила Смирнова кофе и попросила быть бдительным. Мало ли что...
А он положил ей на стол очередной кусок дневника, на который она накинулась, как на лакомство, едва за гостем закрылась дверь.
«Я пытаюсь навязывать людям свои советы, свои идеи, а людям это совсем не интересно. У них хватает своих идей и не хватает времени. Время – это единственное, чем мы располагаем. Пустые разговоры – типично старческая черта. «Дело надо делать, господа!» Каждый представляет собой то, что он успел сделать со своим временем».
Инна Николаевна перечитала последнюю фразу и подумала, что для большинства людей вопрос стоит совсем иначе: что время успело сделать с ними? А оно успело самое вероломное: превратить их в стариков. Вечно раздражённых, сердитых на весь свет из-за невозможности перелицевать жизнь, начать её с чистого листа, без промахов и проигрышей. И лишь уникумы, такие как Смирнов, до ста лет беззаботно, словно воробьи в весенней луже, чирикают и строят планы на будущее. Оттого и яркие краски на холстах, и новые, скороспелые жены…
...Наступила зима, но ни визитов, ни звонков от Олега Степановича не было. Инна Николаевна закрутилась в своих делах, съездила в командировку в Москву, потом вырвалась на неделю в Египет – к верблюдам и Красному морю. Уже на второй день бесцельного лежания на пляже она заскучала и припомнила давний разговор со Смирновым о разного рода удовольствиях.
– Что такое отдых, радости жизни, наслаждение, в конце концов? – вопрошал старик, глотая обжигающе-горячий, как он любил, кофе. – Это же вещь сугубо интимная! Кто сказал, что замок в Испании или прогулочная яхта – предел всех мечтаний? А если я боюсь привидений или у меня морская болезнь? А? Для вас вот какие минуты в жизни самые счастливые, покойные, радостные?
– Ну... не знаю, – задумалась собеседница. – Может быть, сидеть в уютном кресле, читать хорошую книжку, и чтобы за окном шёл дождь… Такой, знаете, нудный, мелкий, осенний. И чтобы абажур на лампе светился жёлтым светом, и тишину нарушал только шорох капель по стеклу…
Похоже, в тот день Инна Николаевна, «мадам Суматоха», как метко окрестил её Смирнов, находилась в хорошем расположении духа и никуда не спешила, поэтому позволила себе капельку романтики... «А ведь прав старик, тысячу раз прав! – рассматривала она сейчас соседей по пляжу, лениво перелистывающих детективы или вяло переговаривающихся о морских ежах и ценах на золото в местных магазинах. – Большинство сюда ездят, потому что модно. Вот и я туда же, куда все. Старик бы меня осудил…»
Она вернулась домой накануне Нового года и, укладывая в пакет восточные сладости, с тайным злорадством представляла разочарование старика. «Ну не бутылку же ему нести, он ведь теперь остепенился. Женился…», – усмехалась она про себя.
Но Смирнов, сидевший посередине обычной квартирной свалки нахохлившись, как больная птица, гостинец встретил благосклонно.
Сквозь распахнутый настежь балкон в комнату летел снег, и мягкие сугробы укрыли пожухлые листья герани, пустые тюбики из-под красок, грязно-зелёную казачью фуражку, надвинутую на самые уши хозяина.
– А где же ваш ангел? – ахнула Инна Николаевна.
– Улетел, – ответил старик.
– Через открытый балкон?
– Вы же не любите дурных запахов, вот я и проветриваю комнату, – вяло, без выражения, парировал он.
– Олег Степанович, я хочу вам помочь, - умоляюще сложила руки Инна Николаевна. – Давайте я позвоню сыну в Москву.
– У меня внук ближе, в Ростове. Уже взрослый. Не появляется с тех пор, как я ему эту квартиру подарил...
Инна Николаевна онемела. Так вот отчего улетают ангелы!
«А сама ты? – тут же одёрнула она себя. – Святая? Признайся, ведь было, было, искушение... Квартира-то в центре, в старинном особняке… Но я бы за ним на самом деле ухаживала, не бросила... – тут же оправдалась она. – Я бы исполняла супружеский долг!» И усмехнулась, вспомнив, как при очередном, уже шутливом разговоре на тему женитьбы, спросила Смирнова о том, что она должна будет делать в качестве его жены, и как тот без запинки ответил: «Всё!»
При этом так подбоченился и сверкнул глазами, что пришлось, сконфузившись, срочно призвать Леночку с кофе.
…После Нового года Смирнов явился в галерею трезвый и даже не очень помятый.
– Опять ангел залетел? – съязвила Инна Николаевна.
– У меня единственный ангел – вы! – не принимая ироничного тона, ответил он.
– А вам, я знаю, нужна духовная пища. Поэтому пришёл записать в ваш блокнот стих, рождённый в новогоднюю ночь. Хотите?
Обычно Смирнов декламировал свои и чужие строчки громко, с выражением, входя в роль и собирая зрителей. Сейчас же, молча и сосредоточенно исписав страницу, и, не дожидаясь оценки, убежал, как будто куда-то опаздывал. Написал он много, но Инна Николаевна смогла разобрать только первые шесть строк:
Мы тишину уже не замечаем.
Грохочут выстрелы, сверкают блицы.
Под Новый год на радостях стреляют,
Как будто все – и террористы, и убийцы.
Хочу понять – не понимаю,
Ну почему я не стреляю?
…А ближе к весне пошли странные времена. Смирнов не только не заходил, но и упорно не отвечал на звонки. Ни телефонные, ни в дверь. Инна Николаевна даже пошла на поклон к его соседям, которые, понятно, ненавидели богему, а художника считали сумасшедшим и мечтали вытурить его из своего благополучного дома.
– Живут у него какие-то подозрительные типы, – обозначилась через цепочку острая лисья мордочка. – Пьют или ещё что, нам неизвестно.
– Да он сам жив ли? – не отставала Инна Николаевна.
– А кто его знает. На той неделе вроде шёл мимо окон в шинелишке своей...
Инна Николаевна позвонила участковому милиционеру, который намедни очень настойчиво предлагал свои услуги и даже раздавал визитные карточки на квартале – видимо, по команде начальства. Но страж порядка только потоптался у закрытых дверей, покашлял для солидности и удалился восвояси, как ни держала его за рукав Инна Николаевна. Похоже, такие клиенты ему не интересны.
...В один из тёплых мартовских дней она всё-таки высмотрела, как колыхнулась грязная шторка в окне нехорошей квартиры.
– Олег Степанович! – закричала она на всю улицу, вспугнув не только прохожих, но и окрестных ворон, поддержавших её дружным карканьем.
– Он болеет … – ответствовала с балкона какая-то подозрительная личность.
– Мне нужно с ним поговорить, откройте, это важно! – настаивала Инна Николаевна.
Личность молча уползла за занавеску. Потом появилась вновь:
– Он сейчас спустится...
...Ожидая старика, Инна Николаевна чувствовала, как закипает в ней злость и уходит страх. Сильнее бандитов она боялась подвоха.
Жан-премьер – большой любитель разыгрывать спектакли, в том числе детективные, и не исключено, что все эти тёмные постояльцы – актёры для его постановки… Внутренний монолог прервал спустившийся со ступенек, как со сцены, старик.
– Послушайте меня, – Олег Степанович был бледен, худ и космат, говорил быстро, тихо и невнятно. – Я связался со страшными людьми. Беженцы. Наркоманы. Ведут себя странно, спят в одной постели, курят траву. Свезли ко мне какие-то узлы и лишают меня возможности подходить к телефону...
Инна Николаевна даже зарумянилась от испуга и волнения, но вдруг заметила испытующе-хитрый взгляд из-под кустистых бровей. «Да он всё-таки играет, что ли... – растерялась она, – ну, что за манера! Ни слова в простоте! А я опять верю ему, как дура!» Но браниться на всякий случай не стала, чтобы потом не раскаиваться. Сказала только, что сообщит о постояльцах в милицию.
– Да-да, в милицию. Непременно в милицию! – с какой-то фальшивой и поспешной готовностью подтвердил Смирнов. – А теперь о главном: вы роскошно выглядите, Франческа Гааль!
И он легко, очень ласково провёл рукой у неё над головой, не коснувшись волос. Как будто прочерчивал нимб…
Прошла ещё неделя, и раздался звонок:
– Если не желаете моей смерти, принесите любого спиртного!
Инну Николаевну неприятно кольнуло ощущение дежавю, но она опять бросила дела и рванула в ненавистный уже старинный особняк. Свита Воланда испарилась, оставив после себя свежие кучи мусора, посреди которых привычно восседал старик. Он обвёл гостью мутным взором, трясущимися руками схватил маленькую бутылку коньяка, опустошил её и облегчённо выдохнул:
– Вы мне принесете ещё, а? – и, поймав гневный взгляд, умоляюще сложил руки.
– Берите картины, берите, сколько унесёте!
– Да не нужны мне ваши картины! – уже благим матом заорала испуганная гостья. Ей показалось, что Смирнов вот-вот испустит дух. – Мне нужны вы! Вы! Дайте мне адрес и телефон ваших родственников, есть же какие-то сватья-братья в этом городе! Дайте!
Старик упрямо покачал головой. Потом протянул очередной мятый листок:
– Ну, хоть это сохраните, вдруг после смерти знаменитым стану. В его голосе прозвучала такая горечь, что Инна Николаевна присела на краешек дивана и стиснула его руку.
– Конечно, станете. И даже при жизни.
Но тут пришла очередь возразить Смирнову.
– Знаете, как Ван Гог говорил о творчестве? Это всё равно, что пробиваться сквозь железную стену, отделяющую то, что ты чувствуешь, от того, что способен передать. Я так и не передал миру того, что я чувствовал. Впрочем, – он слабо усмехнулся. – Ван Гог тоже в этом был уверен.
Инна Николаевна едва сдержала слёзы. Она знала, что только в молодости смерть кажется чем-то из ряда вон выходящим. Нужно непременно разбиться на самолёте, потерпеть кораблекрушение, быть сражённым вражеской пулей... А чтобы вот так просто, легко, взять и умереть – это кажется невероятным! Первый опыт такого рода она пережила, ухаживая за отцом, который после инсульта прожил всего несколько коротких дней. Он то приходил в себя, гладил её по голове и спрашивал, почему она плачет, то куда-то рвался, с кем-то горячо спорил, но в целом был, казалось, и умён, и силён, и полон жизненных сил, как вдруг страшно захрипел и закрыл глаза... Она никого не позвала, сидела рядом, запоминая, как бледнеют его щеки, становятся восковыми пальцы. Трогала лоб, который начинал сковывать лёд... и вот это потрясение от осознания простоты и ординарности смерти запомнилось ей навсегда.
Так что когда на пороге её галереи появился незнакомый человек и обвёл оценивающим взглядом коллекцию картин на стенах, она поняла, что всё свершилось...
– А у вас тоже есть работы Смирнова? – притворно удивился он. – Да, щедрый был человек, раздаривал налево и направо.
Инна Николаевна побагровела от гнева и стыда, а потом сухо ответила:
- Картины все с дарственными надписями. Можете проверить.
- Ну что вы! Старик, я наслышан, был очень к вам расположен. Так что я не в претензиях, – человек приложил руку к груди. Очень знакомый жест.
...Уже в одиночестве Инна Николаевна наплакалась всласть. На этот раз в уход Смирнова она поверила сразу и безоговорочно, и слёзы, как ни странно, принесли ей облегчение. Она будто успокоилась оттого, что сброшен, наконец, груз ответственности за этого неуправляемого человека!
…Тоска же опрокинулась на неё через неделю, причём такая концентрированная, как будто кто-то с небес вылил на неё целое ведро чернил. Инна Николаевна прислушивалась к шагам на лестнице, вздрагивала от мелькнувшего в окне пятна цвета хаки, без конца разглаживала и складывала записочки на мохнатых листках бумаги – его «завещание», но чернота не отступала.
«Крохи… Мне достались от него лишь крохи. И даже этого хватало, чтобы утолять голод и насыщаться! А сколько всего он рассыпал по жизни? Ведь был молод, умел, остёр, смел… Воодушевлён ролями, женщинами, идеями, иллюзиями… Я-то застала даже не осень, а зиму патриарха и то успела погреться!» – думала она, и ей показалось, что и её персональный хронометр стал спешить.
Как вагончики через полустанок по рельсам: тук-тук – один день, другой, третий... И вот уже виден хвост поезда, горят в полутьме сигнальные огни... Умом она понимала, что ещё рано задумываться о вечном, но душа сама выбирала другой ритм. Она полюбила подолгу стоять у картин, особенно «несчастненьких», обречённых на коммерческий провал, много и разбросанно читала, нашла, наконец, толкование не дающей ей покоя фразы о высокой жёлтой ноте. Оказывается, ещё три тысячи лет назад китайцы считали жёлтый цвет главным в палитре красок и называли его «нотой земли». А Ван Гог, с которым «Смирнов нигде не учился», всю жизнь искал особый, «высокий», оттенок жёлтого, и делал это, как заведено у всех этих неуправляемых, гениев, с помощью абсента...
Инна Николаевна даже поехала в Амстердам, в музей Ван Гога и убедилась, что да, старик определённо подражал ему: вот так же обводил предметы чёрным контуром, предпочитая чистые, ясные тона…
Инна Николаевна всматривалась в «Красные виноградники», «Жатву», «Натюрморт с сосновой веткой», пыталась разглядеть за картиной создателя…, но не могла уловить в своём сердце никакого отзвука.
«Так что же остаётся от человека? – спрашивала она себя. – И что, в конце концов, важнее – мы сами или плоды наши? «Подсолнухи», оценённые в миллионы долларов, нисколько меня не трогают, а вот от этой печальной дворняги с разноцветными глазами, которую принёс мне старик в один унылый осенний вечер, мурашки бегут по коже. Может быть, оттого столько подделок в коллекциях по всему миру, что по-настоящему чувствовать художника могут только знающие, любящие его люди? Выходит, важнее всё-таки человек?
Вот ведь нет Смирнова, и пустоту эту никто никогда не заполнит...
Ухожу из жизни с удовольствием,
Не кляня эпоху, не хваля.
Может, и по части продовольствия
Людям будет легче без меня...
Инна Николаевна любовно разгладила смятый лохматый листок («Это к моему завещанию!» – выпятил грудь старик и потешно поднял очи горе), представила, как бы он потешался сейчас над её философскими потугами, и подошла к зеркалу. На неё смотрела немолодая, сердитая дама с потухшим взглядом и глубокой складкой между бровей – морщиной гнева.
– Франческа Гааль… – доложила она своему отражению в зеркале и усмехнулась. – Портрет незнакомки кисти неизвестного художника конца ХХ века...
И вдруг скорее почувствовала, чем увидела, как засветился у неё над головой нимб, прочерченный в воздухе его невидимой рукой…
Инна Николаевна ожидала от него всего, чего угодно, но это было слишком!
– Как? – всплеснула она руками. – Как это умерла? Я же её видела на прошлой неделе при полном параде, завитой и подкрашенной...
– В одночасье… – употребил Олег Степанович забытое выражение и старомодно приложил руку к груди в районе сердца. Жест показался убедительным, но сбитая с толку Инна Николаевна требовала подробностей и объяснений.
– Как-то я рассказывал вам про экстрасенса... – неохотно и загадочно начал старик.
– Помню...
– Так вот, он сказал, что внуков у неё нет, потому что она не освобождает для них места на земле...
– Какая чушь! Ну и что, она после этого вот так просто решила умереть и умерла?
– Если вы помните, Елена Сергеевна была дамой мужественной...
Проговаривая этот странный текст, Олег Степанович стоял, высоко подняв голову и сложив на груди руки. Глаза его горели вдохновением. Или в них блестели слёзы? Инна Николаевна, за годы знакомства привыкшая к самым сумасбродным розыгрышам, с облегчением схватилась за трубку задребезжавшего телефона и долго кричала в него, стараясь не смотреть на живое изваяние посреди кабинета.
...В прошлой жизни старик был актёром. «Жан-премьер, известный по провинциям», – говорил он об этом как о случайном эпизоде в своей пёстрой и безалаберной жизни. Но, судя по количеству пожелтевших театральных афишек, выпадающих из рассохшегося шкафа в его «нехорошей» квартире, роман со сценой тянулся лет сорок. Только проходил он далеко от здешних мест. Что не мешало дамам особо приближённым, из тех, кого Олег Степанович называл «тургеневскими девушками бальзаковского возраста», воображать его живым персонажем Островского – обаятельным и беспутным Григорием Несчастливцевым.
Официально же, если это слово хоть как-то лепится к этой необузданной натуре, он считался в южном, засаженном акациями, когда-то тишайшем, а ныне ревущим моторами и кадящим дымами южном городе художником. Не чета, конечно, местным знаменитостям, на все лады переписывающим пейзажи с казачьими хуторами или натюрморты с кринками и жбанами кваса, но числящимся в свои восемьдесят с чем-то лет подающим большие надежды.
Смирнов терпеть не мог грунтовать холст, да и пенсии ему на холсты не хватало. Поэтому писал он то на оборотной стороне лозунга «Вперёд, к победе коммунизма!», то на станине от старой швейной машинки, то на сиденье сломанного стула.
Вот с таким стулом он однажды и предстал перед Инной Николаевной – хозяйкой небольшой картинной галереи, точнее салона, которая хоть и слышала о художниках-передвижниках, а также французских импрессионистах, образование имела самое прозаическое – финансовое. Поэтому на стул воззрилась с большим недоумением и уже подумывала позвать секретаршу на помощь. Но… прошло пять минут, лёд был растоплен, рука, протянутая для пожатия, расцелована, а из соседней комнаты всё-таки вынесен дымящийся кофейник – знак гостеприимства.
– Вы знаете, как обходиться в квартире без ремонта? – продолжал ораторствовать Смирнов, в душе уже праздновавший свою победу. – Вешать на стены картины, много картин! А снам верите? Знаете, что Паганини сочинил свою лучшую сюиту «Дьявольские трели» во сне? Я, кстати, вынашиваю замысел романа «Сны мудрецов», со своими иллюстрациями... – балагурил Олег Степанович, и строгая Инна Николаевна не смогла устоять перед обаянием старика – заулыбалась.
Даже устроила в центральной городской галерее его персональную выставку с кокетливым названием «Мы с Ван Гогом нигде не учились». Кособокие, без рам, картины смотрелись на белых глянцевых стенах диковато, как и сам виновник торжества, не снявший в гардеробе ни старой шинели, ни казачьей фуражки с красным околышем. После жиденькой церемонии открытия, на которой обозначился всего один букет – жене и музе, Смирнов тут же покинул выставку, прошагав через зал широко и стремительно, как царь Пётр на известной картине. Сыграл роль гения, не дождавшись подтверждения и не услышав оваций.
...Серьёзные клиенты, конечно, работами не заинтересовались – мыслимо ли повесить в офисе солидного банка рамку из обуглившихся головёшек или колючей проволоки?
Знатоки же, местная богема, поохала, позвенела мелочью в карманах и разошлась восвояси. К тому же картинами Смирнова был снабжён весь ближний круг – художник имел привычку раздаривать их ещё непросохшими.
В галерее после выставки остались удачный автопортрет, выполненный на ржавом противне от старой духовки и триптих «Адам и Ева» – на обороте устаревшего призыва «Пятилетку – в четыре года!». Несмотря на застойную изнанку, работы светились такими живыми и свежими красками, что заезжие эксперты оценили их как юношеские. «Согласитесь, ну не может старый человек так ярко видеть мир!»
– А как же Ван Гог? – осмеливалась возразить столичным критикам Инна Николаевна.
– Ван Гог умер тридцати семи лет от роду. А вашему Смирнову, вы говорите, сколько?
Она не решалась его спросить, но, учитывая то, как ловко и без тени сомнения в своём обаянии обходился он с дамами, это было не суть неважно. Да и при чём тут возраст, когда налицо редчайший по нынешним временам мужской талант? Он, как всякий божий дар, с годами не убывает, а только растёт. Одним дамам Смирнов читал стихи, других норовил как-то ненароком, но очень выразительно обнять, третьим раскрывал секреты красоты: «Запомните: если пудра, то с блеском! Лицо – не маска, оно должно, как в молодости, переливаться и сиять! Свежесть, только первая свежесть! И хороши ещё румяна на мочках ушей…»
…Инна Николаевна невольно взглянула на себя в зеркало – в порядке ли она? У него ведь глаз острый.
– Так как вы смотрите на моё предложение? – Олег Степанович по-прежнему стоял у стола. Он никогда не садился без приглашения.
– Да сядьте же, наконец! – прикрикнула на него Инна Николаевна. Кричала она на всех, но на Смирнова всегда чуть громче и чуть кокетливее. А что? Разве точная копия Франчески Гааль, как утверждал старик, не может эту вольность себе позволить? Кстати, эту Франческу Инна Николаевна в глаза не видела – та снялась в кино ещё до нашей эры, но к чему же отрицать такое лестное сходство?
– Конечно, вы человек творческий, вам многое прощается, – издалека начала она, когда гость присел на краешек стула. Но надолго её дипломатии не хватило:
– Ну, нельзя же так!
– Как? – казалось, искренне удивился старик.
– Нет, ну вы смеётесь... – даже покраснела от гнева Инна Николаевна. – Допустим, Елена Сергеевна умерла. Хотя странно... Но от вас двоих можно всего ожидать. Допустим, умерла... – повторила она, прислушиваясь к странной мелодике этого слова. – Так что же? Не то, что пары башмаков не сносить, но ещё и помянуть, как следует, и уже бежать к другой женщине. Да это просто... неприлично!
– Почему? – невинно, как ребёнок, спросил Олег Степанович. – Человек рождается одиноким и умирает в одиночестве. Это только неразвитые люди серьёзно считают, что им кто-то принадлежит. Жена мужу, муж жене. Впрочем, извините.
Он встал, отвесил поклон и направился к двери.
– Эх вы, рабы условностей! – добавил он, взявшись за дверную ручку, и только Инна Николаевна начала страдать и раскаиваться, сделал такую потешную мину, что она расхохоталась, потом спохватилась, сделала строгое лицо и, в конце концов, замахала руками:
– Идите уже, шут гороховый!
...Инна Николаевна никогда не была замужем и никогда не была одинокой. Раздвоение личности между финансами и романсами всегда приводило её к печальной развязке. Один возлюбленный был гений со всеми вытекающими отсюда последствиями, другой женат, третий – пьяница. Кстати, Олег Степанович тоже употреблял, и зло. Жена его, Елена Сергеевна, терпеть не могла в доме гостей с бутылками. А к художникам ведь только такие и захаживают. Но она им воли не давала. Жаль только, недолго. Пять лет они вместе прожили, кажется. Жена смогла занять место в доме только после смерти древней, похожей на пиковую даму, старухи, матери Смирнова. Или это случилось чуть раньше? Инна Николаевна потёрла лоб, пытаясь вспомнить отголоски каких-то скандалов…
И тут же увидела запущенную, заваленную картинами, бумагами и пустыми тюбиками берлогу двух стариков, – молодящейся Елены Сергеевны, которая увлекалась то спиритизмом, то астрологией, а то, вот, на свою голову, экстрасенсами, и величественного, по-купечески щедрого Олега Степановича, награждающего каждого гостя эскизом, наброском, а то и целой картиной.
Елене Сергеевне не нравилась такая расточительность: то ли она надеялась выгодно распорядиться творческим наследием, то ли просто ревновала мужа. Олег Степанович знал эту её слабость, время от времени становился в позу и басом (Мефистофель! Люди гибнут за металл!) гудел:
– И обогатишься ты, раба божья, только после моей смерти. Знай, что художников ценят не современники, но потомки!
Елена Сергеевна после этой проповеди по-девичьи краснела, по-старушечьи, невзирая на полезные советы мужа, пудрила носик белой, как алебастр, пудрой, и убегала по астрологическим делам – она составляла гороскопы, и у неё была своя клиентура. «Лучше бы в квартире порядок навела, глядишь, меньше бы всяких бомжей и шарлатанов в неё попадало… – вслед ей, словно живой, мысленно послала упрёк Инна Николаевна и спохватилась:
– Ох, Господи, что ж я!
...В смирновской квартире царило ещё большее запустение, чем помнилось Инне Николаевне. В этом она убедилась через неделю, когда, терзаемая сомнениями, решилась навестить вдовца. Да и вдовца ли? Выдумывал же Смирнов сюжеты рассказов, которые обещал издать толстой книжкой или пьес – их были готовы поставить все театры страны – от местной оперетты до МХАТа. Жил он в бывшей коммуналке, которую соседи перекроили всяк на свою сторону и, как смогли, благоустроили. У Смирновых ванна, по какому-то странному раскладу, стояла в передней. Рядом ютилась газовая плита, на которой в данный момент кипело варево с тошнотворным запахом. Сам хозяин, одетый в жёсткую от грязи шинель, возлежал в кресле в живописной куче тряпья и являл собой последний кадр старого польского фильма «Пепел и алмаз», герой которого принимал мученическую смерть на свалке.
Тишину нарушал лишь мерный звук капели. Инна Николаевна подняла глаза к потолку – точно посередине, возле люстры, расплылось мокрое грязное пятно.
– О господи! – почти всхлипнула гостья. Таким зелёным и несчастным она Смирнова никогда не видела. Хотя бедная жена иногда расплывчато отвечала, что Олег Степанович не может подойти к телефону по причине лёгкого недомогания... А теперь вот... полюбуйтесь. Инна Николаевна попыталась сгрести веником бумажки, чтобы проложить тропинку в мусорных завалах, но старик, как Вий, поднял тяжёлые веки и мрачно приказал:
– Ничего не выбрасывайте, это мои записи. Интересно – полистайте.
«Мой последний дневник, – стала она в растерянности, не зная, как себя вести в такой ситуации, разбирать косые крупные буквы. – Сенека писал, что цель жизни каждого человека – самоусовершенствование. Можно идти к нему путём размышлений – самым достойным, подражаний – самым лёгким, и опыта – самым тяжёлым. Я, конечно, как и большинство людей, выбрал последнее. А вдруг, сам того не сознавая, иду путём подражания? Не дай Бог!»
На обороте шёл совсем другой текст: «Странная переписка у меня с сыном. Я ему пишу, но письма не отправляю. По телефону разговаривать не умею и не люблю. Сам никогда не звоню, а если он (вдруг!) позвонит, то у меня остаётся неприятный осадок от куцего разговора. Досада на себя: не так и не то говорю».
– У вас есть сын? – удивилась Инна Николаевна. – Где же он?
– В столице. Мы с ним не виделись лет двадцать. Он меня не очень жалует, и правильно делает. Плохой я отец...
– Конечно, плохой, если сын хоть раз имел счастье наблюдать вас в таком виде.
– Обычный для художника вид. Ищу высокую жёлтую ноту...
– Что?
Олег Степанович пожал плечами:
– Бизнесменам этого знать необязательно.
Говорил он с видимым усилием, и Инна Николаевна засуетилась насчёт чая, но старик только отмахнулся.
– Если хотите быть моим добрым ангелом, принесите любого спиртного. Слышите, любого!
Что-то в этой не просительной, но повелительной интонации заставило Инну Николаевну покорно побежать в соседний магазин и купить бутылку красного вина. Смирнов без удовольствия взглянул на этикетку, потом яростно ввинтил в пробку откуда-то возникший в этом хаосе штопор. Пил он прямо из горла, жадно, но не проливая ни капли.
Брезгливо отвернувшись, Инна Николаевна постояла минуту, а потом, не прощаясь, выскочила на свежий осенний воздух. Уже в своём кабинете она нащупала в кармане скомканные листочки, подобранные с пола, разгладила их и стала читать. Не из интереса, а просто чтобы успокоиться:
«На соседней улице два дня назад погибла старушка. Старушка уже не в первый раз сидела на тротуаре возле вековой акации, торговала семечками.
Автомобиль размазал старушку по стволу дерева. Это судьба или что?» Дальше, опять невпопад, совсем про другое: «Полина Виардо была знаменитой певицей, и потому её не знают, как композитора, значит, талант проглядели. Только Лист и Тургенев безуспешно пропагандировали музыку Виардо. И Михаил Врубель был сначала скульптор, а потом уж живописец. Леонид Андреев известен как писатель и совершенно неизвестен как художник. Все его полотна погибли в революцию. Бухарин и царь Николай тоже писали картины».
«В этом он весь, – уже с нежностью думала Инна Николаевна. – Делает вид, что ему не нужно признание, а сам страдает. Не уверен в себе, как мальчишка. А кто уверен? Я, что ли? А ведь ни на что не претендую, кроме как на заурядное бабье счастье. Которого тоже нет, как нет. Может быть, потому, что иду самым тяжёлым путём – своих ошибок?»
Она дотемна засиделась на работе. Домой не спешила, к Смирнову возвратиться не могла – из предательской брезгливости. Возможно, у неё не было вкуса, как иногда в пылу спора утверждал художник, но нюх, к сожалению, был. Вернее, обоняние, прямо-таки собачье, мешающее спокойно жить. Однажды Смирнов, заметив её непроизвольно сморщившийся при виде его несвежей шинели нос, заявил, что порога её салона больше не переступит.
Инна Николаевна тогда фальшиво рассмеялась и за рукав втащила гостя в свой кабинет, но это не решило её проблемы: она слышала, как даже самые ухоженные старички и старушки источают специфический аромат – запах старости, неизбежный и неотвратимый. И грустила потому, что прозревала тут и своё неизбежное будущее.
Следующий визит в нехорошую квартиру она нанесла через месяц, заинтригованная воркующим женским голосом в трубке: «Олега Степановича? Одну минутку, я позову его к телефону...»
В доме было прибрано. Страшный призрак коммуналки затаился в тёмных углах, а в лепных карнизах высоких стен, кованых узорах старинного балкона проступило нечто аристократически-величественное, под стать хозяину.
Расставленные по комнате картины, раньше скрытые марлей паутины, светились. Как и сам художник, выступивший в тесную переднюю вальяжно, словно барин на крыльцо дворянской усадьбы.
– Познакомьтесь: мой добрый ангел Лидия Ивановна, – церемонно поклонился Смирнов в сторону юркой черноглазой женщины, суетливо протянувшей руку гостье. Инна Николаевна поджала губы. «Неужели я ревную?» – спохватилась она.
Но посидела недолго – в присутствии чужих, как сразу определила она новую жену, говорить было не о чем. Быстро распрощалась, сухо пригласив Олега Степановича в галерею оценить новое поступление.
Он явился прямо на следующее утро, одухотворённый и сияющий.
Инна Николаевна, не церемонясь, напустилась на него, как старая ревнивая жена:
– Кто эта женщина?
Смирнов, казалось, очень обрадовался этому, почти семейному, скандальчику, хитро сощурился и даже откашлялся, приготовившись к длинному и красочному рассказу. Но как только Инна Николаевна узнала, что новый «ангел» – подруга той самой прорицательницы, которая свела Елену Сергеевну в могилу, мизансцена развалилась.
– А если они её отравили?! – ужаснулась Инна Николаевна. – Чтобы вашу квартиру забрать?! А вы уши развесили: ангел, ангел… Что-то много ангелов на квадратный метр вашей площади… Вы же умный человек, неужели всерьёз верите в смерть от предсказаний?
– Да нет, официально Леночка умерла от сердечного приступа... – оправдывался растерявшийся Смирнов.
– Ах, от приступа! Так что же вы мне голову морочили?!
…Инне Николаевне вдруг стало стыдно. «Какое право я имею распоряжаться? Кто я ему, в конце концов? Жалеешь старика – не кричи, а возьми над ним шефство. Как тимуровец...» Вот этот «тимуровец» показался ей таким смешным, что она успокоилась, напоила Смирнова кофе и попросила быть бдительным. Мало ли что...
А он положил ей на стол очередной кусок дневника, на который она накинулась, как на лакомство, едва за гостем закрылась дверь.
«Я пытаюсь навязывать людям свои советы, свои идеи, а людям это совсем не интересно. У них хватает своих идей и не хватает времени. Время – это единственное, чем мы располагаем. Пустые разговоры – типично старческая черта. «Дело надо делать, господа!» Каждый представляет собой то, что он успел сделать со своим временем».
Инна Николаевна перечитала последнюю фразу и подумала, что для большинства людей вопрос стоит совсем иначе: что время успело сделать с ними? А оно успело самое вероломное: превратить их в стариков. Вечно раздражённых, сердитых на весь свет из-за невозможности перелицевать жизнь, начать её с чистого листа, без промахов и проигрышей. И лишь уникумы, такие как Смирнов, до ста лет беззаботно, словно воробьи в весенней луже, чирикают и строят планы на будущее. Оттого и яркие краски на холстах, и новые, скороспелые жены…
...Наступила зима, но ни визитов, ни звонков от Олега Степановича не было. Инна Николаевна закрутилась в своих делах, съездила в командировку в Москву, потом вырвалась на неделю в Египет – к верблюдам и Красному морю. Уже на второй день бесцельного лежания на пляже она заскучала и припомнила давний разговор со Смирновым о разного рода удовольствиях.
– Что такое отдых, радости жизни, наслаждение, в конце концов? – вопрошал старик, глотая обжигающе-горячий, как он любил, кофе. – Это же вещь сугубо интимная! Кто сказал, что замок в Испании или прогулочная яхта – предел всех мечтаний? А если я боюсь привидений или у меня морская болезнь? А? Для вас вот какие минуты в жизни самые счастливые, покойные, радостные?
– Ну... не знаю, – задумалась собеседница. – Может быть, сидеть в уютном кресле, читать хорошую книжку, и чтобы за окном шёл дождь… Такой, знаете, нудный, мелкий, осенний. И чтобы абажур на лампе светился жёлтым светом, и тишину нарушал только шорох капель по стеклу…
Похоже, в тот день Инна Николаевна, «мадам Суматоха», как метко окрестил её Смирнов, находилась в хорошем расположении духа и никуда не спешила, поэтому позволила себе капельку романтики... «А ведь прав старик, тысячу раз прав! – рассматривала она сейчас соседей по пляжу, лениво перелистывающих детективы или вяло переговаривающихся о морских ежах и ценах на золото в местных магазинах. – Большинство сюда ездят, потому что модно. Вот и я туда же, куда все. Старик бы меня осудил…»
Она вернулась домой накануне Нового года и, укладывая в пакет восточные сладости, с тайным злорадством представляла разочарование старика. «Ну не бутылку же ему нести, он ведь теперь остепенился. Женился…», – усмехалась она про себя.
Но Смирнов, сидевший посередине обычной квартирной свалки нахохлившись, как больная птица, гостинец встретил благосклонно.
Сквозь распахнутый настежь балкон в комнату летел снег, и мягкие сугробы укрыли пожухлые листья герани, пустые тюбики из-под красок, грязно-зелёную казачью фуражку, надвинутую на самые уши хозяина.
– А где же ваш ангел? – ахнула Инна Николаевна.
– Улетел, – ответил старик.
– Через открытый балкон?
– Вы же не любите дурных запахов, вот я и проветриваю комнату, – вяло, без выражения, парировал он.
– Олег Степанович, я хочу вам помочь, - умоляюще сложила руки Инна Николаевна. – Давайте я позвоню сыну в Москву.
– У меня внук ближе, в Ростове. Уже взрослый. Не появляется с тех пор, как я ему эту квартиру подарил...
Инна Николаевна онемела. Так вот отчего улетают ангелы!
«А сама ты? – тут же одёрнула она себя. – Святая? Признайся, ведь было, было, искушение... Квартира-то в центре, в старинном особняке… Но я бы за ним на самом деле ухаживала, не бросила... – тут же оправдалась она. – Я бы исполняла супружеский долг!» И усмехнулась, вспомнив, как при очередном, уже шутливом разговоре на тему женитьбы, спросила Смирнова о том, что она должна будет делать в качестве его жены, и как тот без запинки ответил: «Всё!»
При этом так подбоченился и сверкнул глазами, что пришлось, сконфузившись, срочно призвать Леночку с кофе.
…После Нового года Смирнов явился в галерею трезвый и даже не очень помятый.
– Опять ангел залетел? – съязвила Инна Николаевна.
– У меня единственный ангел – вы! – не принимая ироничного тона, ответил он.
– А вам, я знаю, нужна духовная пища. Поэтому пришёл записать в ваш блокнот стих, рождённый в новогоднюю ночь. Хотите?
Обычно Смирнов декламировал свои и чужие строчки громко, с выражением, входя в роль и собирая зрителей. Сейчас же, молча и сосредоточенно исписав страницу, и, не дожидаясь оценки, убежал, как будто куда-то опаздывал. Написал он много, но Инна Николаевна смогла разобрать только первые шесть строк:
Мы тишину уже не замечаем.
Грохочут выстрелы, сверкают блицы.
Под Новый год на радостях стреляют,
Как будто все – и террористы, и убийцы.
Хочу понять – не понимаю,
Ну почему я не стреляю?
…А ближе к весне пошли странные времена. Смирнов не только не заходил, но и упорно не отвечал на звонки. Ни телефонные, ни в дверь. Инна Николаевна даже пошла на поклон к его соседям, которые, понятно, ненавидели богему, а художника считали сумасшедшим и мечтали вытурить его из своего благополучного дома.
– Живут у него какие-то подозрительные типы, – обозначилась через цепочку острая лисья мордочка. – Пьют или ещё что, нам неизвестно.
– Да он сам жив ли? – не отставала Инна Николаевна.
– А кто его знает. На той неделе вроде шёл мимо окон в шинелишке своей...
Инна Николаевна позвонила участковому милиционеру, который намедни очень настойчиво предлагал свои услуги и даже раздавал визитные карточки на квартале – видимо, по команде начальства. Но страж порядка только потоптался у закрытых дверей, покашлял для солидности и удалился восвояси, как ни держала его за рукав Инна Николаевна. Похоже, такие клиенты ему не интересны.
...В один из тёплых мартовских дней она всё-таки высмотрела, как колыхнулась грязная шторка в окне нехорошей квартиры.
– Олег Степанович! – закричала она на всю улицу, вспугнув не только прохожих, но и окрестных ворон, поддержавших её дружным карканьем.
– Он болеет … – ответствовала с балкона какая-то подозрительная личность.
– Мне нужно с ним поговорить, откройте, это важно! – настаивала Инна Николаевна.
Личность молча уползла за занавеску. Потом появилась вновь:
– Он сейчас спустится...
...Ожидая старика, Инна Николаевна чувствовала, как закипает в ней злость и уходит страх. Сильнее бандитов она боялась подвоха.
Жан-премьер – большой любитель разыгрывать спектакли, в том числе детективные, и не исключено, что все эти тёмные постояльцы – актёры для его постановки… Внутренний монолог прервал спустившийся со ступенек, как со сцены, старик.
– Послушайте меня, – Олег Степанович был бледен, худ и космат, говорил быстро, тихо и невнятно. – Я связался со страшными людьми. Беженцы. Наркоманы. Ведут себя странно, спят в одной постели, курят траву. Свезли ко мне какие-то узлы и лишают меня возможности подходить к телефону...
Инна Николаевна даже зарумянилась от испуга и волнения, но вдруг заметила испытующе-хитрый взгляд из-под кустистых бровей. «Да он всё-таки играет, что ли... – растерялась она, – ну, что за манера! Ни слова в простоте! А я опять верю ему, как дура!» Но браниться на всякий случай не стала, чтобы потом не раскаиваться. Сказала только, что сообщит о постояльцах в милицию.
– Да-да, в милицию. Непременно в милицию! – с какой-то фальшивой и поспешной готовностью подтвердил Смирнов. – А теперь о главном: вы роскошно выглядите, Франческа Гааль!
И он легко, очень ласково провёл рукой у неё над головой, не коснувшись волос. Как будто прочерчивал нимб…
Прошла ещё неделя, и раздался звонок:
– Если не желаете моей смерти, принесите любого спиртного!
Инну Николаевну неприятно кольнуло ощущение дежавю, но она опять бросила дела и рванула в ненавистный уже старинный особняк. Свита Воланда испарилась, оставив после себя свежие кучи мусора, посреди которых привычно восседал старик. Он обвёл гостью мутным взором, трясущимися руками схватил маленькую бутылку коньяка, опустошил её и облегчённо выдохнул:
– Вы мне принесете ещё, а? – и, поймав гневный взгляд, умоляюще сложил руки.
– Берите картины, берите, сколько унесёте!
– Да не нужны мне ваши картины! – уже благим матом заорала испуганная гостья. Ей показалось, что Смирнов вот-вот испустит дух. – Мне нужны вы! Вы! Дайте мне адрес и телефон ваших родственников, есть же какие-то сватья-братья в этом городе! Дайте!
Старик упрямо покачал головой. Потом протянул очередной мятый листок:
– Ну, хоть это сохраните, вдруг после смерти знаменитым стану. В его голосе прозвучала такая горечь, что Инна Николаевна присела на краешек дивана и стиснула его руку.
– Конечно, станете. И даже при жизни.
Но тут пришла очередь возразить Смирнову.
– Знаете, как Ван Гог говорил о творчестве? Это всё равно, что пробиваться сквозь железную стену, отделяющую то, что ты чувствуешь, от того, что способен передать. Я так и не передал миру того, что я чувствовал. Впрочем, – он слабо усмехнулся. – Ван Гог тоже в этом был уверен.
Инна Николаевна едва сдержала слёзы. Она знала, что только в молодости смерть кажется чем-то из ряда вон выходящим. Нужно непременно разбиться на самолёте, потерпеть кораблекрушение, быть сражённым вражеской пулей... А чтобы вот так просто, легко, взять и умереть – это кажется невероятным! Первый опыт такого рода она пережила, ухаживая за отцом, который после инсульта прожил всего несколько коротких дней. Он то приходил в себя, гладил её по голове и спрашивал, почему она плачет, то куда-то рвался, с кем-то горячо спорил, но в целом был, казалось, и умён, и силён, и полон жизненных сил, как вдруг страшно захрипел и закрыл глаза... Она никого не позвала, сидела рядом, запоминая, как бледнеют его щеки, становятся восковыми пальцы. Трогала лоб, который начинал сковывать лёд... и вот это потрясение от осознания простоты и ординарности смерти запомнилось ей навсегда.
Так что когда на пороге её галереи появился незнакомый человек и обвёл оценивающим взглядом коллекцию картин на стенах, она поняла, что всё свершилось...
– А у вас тоже есть работы Смирнова? – притворно удивился он. – Да, щедрый был человек, раздаривал налево и направо.
Инна Николаевна побагровела от гнева и стыда, а потом сухо ответила:
- Картины все с дарственными надписями. Можете проверить.
- Ну что вы! Старик, я наслышан, был очень к вам расположен. Так что я не в претензиях, – человек приложил руку к груди. Очень знакомый жест.
...Уже в одиночестве Инна Николаевна наплакалась всласть. На этот раз в уход Смирнова она поверила сразу и безоговорочно, и слёзы, как ни странно, принесли ей облегчение. Она будто успокоилась оттого, что сброшен, наконец, груз ответственности за этого неуправляемого человека!
…Тоска же опрокинулась на неё через неделю, причём такая концентрированная, как будто кто-то с небес вылил на неё целое ведро чернил. Инна Николаевна прислушивалась к шагам на лестнице, вздрагивала от мелькнувшего в окне пятна цвета хаки, без конца разглаживала и складывала записочки на мохнатых листках бумаги – его «завещание», но чернота не отступала.
«Крохи… Мне достались от него лишь крохи. И даже этого хватало, чтобы утолять голод и насыщаться! А сколько всего он рассыпал по жизни? Ведь был молод, умел, остёр, смел… Воодушевлён ролями, женщинами, идеями, иллюзиями… Я-то застала даже не осень, а зиму патриарха и то успела погреться!» – думала она, и ей показалось, что и её персональный хронометр стал спешить.
Как вагончики через полустанок по рельсам: тук-тук – один день, другой, третий... И вот уже виден хвост поезда, горят в полутьме сигнальные огни... Умом она понимала, что ещё рано задумываться о вечном, но душа сама выбирала другой ритм. Она полюбила подолгу стоять у картин, особенно «несчастненьких», обречённых на коммерческий провал, много и разбросанно читала, нашла, наконец, толкование не дающей ей покоя фразы о высокой жёлтой ноте. Оказывается, ещё три тысячи лет назад китайцы считали жёлтый цвет главным в палитре красок и называли его «нотой земли». А Ван Гог, с которым «Смирнов нигде не учился», всю жизнь искал особый, «высокий», оттенок жёлтого, и делал это, как заведено у всех этих неуправляемых, гениев, с помощью абсента...
Инна Николаевна даже поехала в Амстердам, в музей Ван Гога и убедилась, что да, старик определённо подражал ему: вот так же обводил предметы чёрным контуром, предпочитая чистые, ясные тона…
Инна Николаевна всматривалась в «Красные виноградники», «Жатву», «Натюрморт с сосновой веткой», пыталась разглядеть за картиной создателя…, но не могла уловить в своём сердце никакого отзвука.
«Так что же остаётся от человека? – спрашивала она себя. – И что, в конце концов, важнее – мы сами или плоды наши? «Подсолнухи», оценённые в миллионы долларов, нисколько меня не трогают, а вот от этой печальной дворняги с разноцветными глазами, которую принёс мне старик в один унылый осенний вечер, мурашки бегут по коже. Может быть, оттого столько подделок в коллекциях по всему миру, что по-настоящему чувствовать художника могут только знающие, любящие его люди? Выходит, важнее всё-таки человек?
Вот ведь нет Смирнова, и пустоту эту никто никогда не заполнит...
Ухожу из жизни с удовольствием,
Не кляня эпоху, не хваля.
Может, и по части продовольствия
Людям будет легче без меня...
Инна Николаевна любовно разгладила смятый лохматый листок («Это к моему завещанию!» – выпятил грудь старик и потешно поднял очи горе), представила, как бы он потешался сейчас над её философскими потугами, и подошла к зеркалу. На неё смотрела немолодая, сердитая дама с потухшим взглядом и глубокой складкой между бровей – морщиной гнева.
– Франческа Гааль… – доложила она своему отражению в зеркале и усмехнулась. – Портрет незнакомки кисти неизвестного художника конца ХХ века...
И вдруг скорее почувствовала, чем увидела, как засветился у неё над головой нимб, прочерченный в воздухе его невидимой рукой…
Лариса НОВОСЕЛЬСКАЯ
Как я не стал членом
Союза писателей
Союза писателей
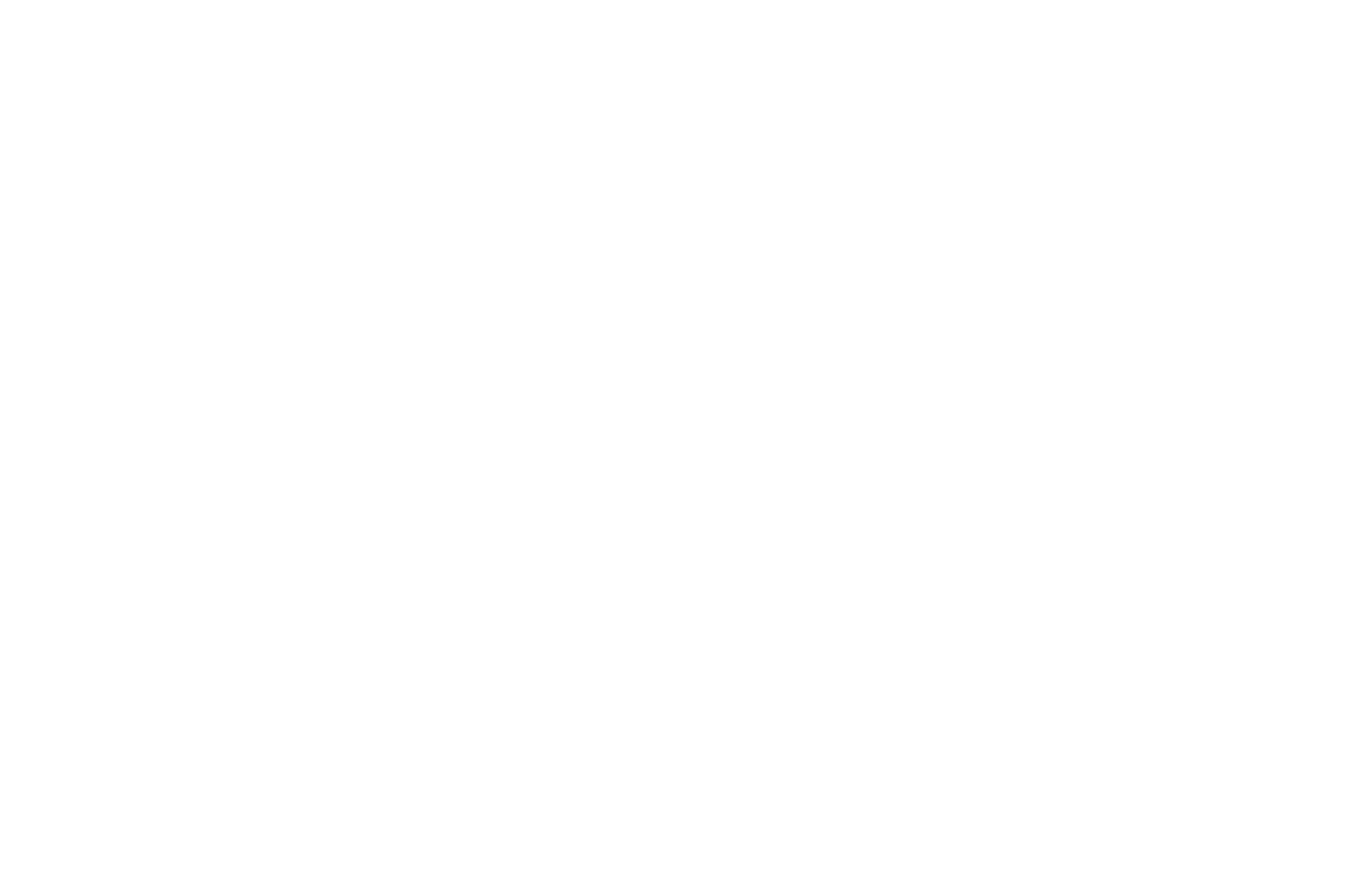
Сергей
Кащеев
Кащеев
На Сахалине в самом начале восьмидесятых со связью было совсем туго. Домашние телефоны были редкостью. А служебного я ещё толком не заслужил. Впрочем, у меня всё же возможность звонить по Сахалинской области была. Раз в три дня, согласно вахтенному расписанию, до меня можно было дозвониться на работу из Южно-Сахалинска. В смысле, даже если не только по работе. На телевизионную вышку на высокой горе над городом Невельском, что на юго-западном берегу острова. Я там работал радиотехником обеспечения ретрансляций «ТББ» – Телевидения Брежневского Благополучия.
Вот туда-то, в наш вагончик с аппаратурой, где я отрабатывал свои 24 часа смены, куда никто до того не заглядывал никогда в жизни, вдруг ближе к вечеру, зимой, вваливается бригада подмороженных мужиков и одна девушка. Причём снизу они шли вверх по сугробам пешком! В гору с уклоном 30 градусов и с километр подъёма по снегу – нет таких машин в природе. А эти герои притащили на себе ещё и киноаппаратуру. Были ещё упёртые журналисты в те времена!
Это была съёмочная группа Сахалинского ВГТРК. Мужики пёрли тяжелейшие камеры, свет, аппаратуру для звука и редакторшу. Имя её не вспомню, но – молодая, самоуверенная, красивая, наглая, стройная. Тут ещё нужно уточнить, для тех, кто не совсем в курсе. «Камера» в начале восьмидесятых, это не сегодняшняя японская фигня в кулачке, а такая, что вместе со штативом и аккумуляторами весит кг …тридцать. А «Свет», это не современные неонки «1 кг – осветишь Кремль», а железные фонари, только с линзами по полкило каждое. Их конструкцию киношники и телевидение, запросто и естественно, слизали у театральных подсветок. Поэтому там ещё и были «софиты», белые зонтики, зеркала и т. д. Про звук я вообще молчу! Там они притащили ПУЛЬТ! Редактор-журналист была непреклонна! Мне был до этого какой-то странный звонок. – Вы на работе?
– А где бы мне ещё быть?
И эта, молодая и креативно «вся из себя журналистская», леди, попёрла всю съёмочную группу в гору.
Мне было их жаль. Я, конечно, тут же напоил их горячим чаем. И не только чаем. Было в вагончике в закромах. Для протирки важных клемм. Пару килограммов. На самый пожарный случай. Ребята стали с каждой рюмочкой отогреваться и сразу заворчали, как мотор, которому под капот засунули обогреватель. Журналистка-монстр не дала им слова. Я, правда, не понимал совершенно, что они тут делают. К тому же вышки ТВ – это в те времена были объекты из разряда особо охраняемых. Инструкциями. В наш вагончик я даже не имел права никого впускать. Но молодая мегера, замершими пальчиками с фиолетовыми ногтями протянула мне разрешение на съёмку. Подписано моим начальством в области.
Я оторопел. Там, в этом «Разрешении», была написана моя фамилия. Мол, «для съёмок на рабочем месте». «А я-то тут причём?» – совершенно искренно даже не удивился…а поразился я?
Разговаривая со мной, как с дебилом из профилактория имени Фёдора Достоевского, она, закусывая моей, на остальной день до утра рассчитанной едой, сказала: «Вы что, Сергей Геннадьевич, ничо не понЯли? (Ей рюмки хватило). Вы победили в конкурсе рассказа в нашем, (икнула), этом областном конкурсе писателей, поэтов, композиторов. А это проводится раз в четыре года! Вы ПОБЕДИТЕЛЬ! У вас теперь (Ик!) – все двери открыты!»
Я …охренел! Я там что-то отсылал года полтора назад, но не на конкурс, а приятельнице из молодёжной газеты. Но забыл об этом уже начисто.
– Давайте уже снимать! Ты… Вы… Ты что-то тут делай, …паяй, например, Сергей Геннадьевич. А мы снимем!
– Меня можно просто Сергей. Вы бы всё же проверили. Может, ошиблись, – с опаской попросил я, кивая на телефон.
– Никакой ошибки нет! Мы о тебе говорили в редакции. Эти наши старые хрычи вынуждены были тебе Первую Премию дать! Хотели, естественно, Самигуллину всучить. Как всегда. Но он уже сдал по возрасту. Ему уже за семьдесят. Написал за эти четыре последних года два рассказа. Бред! Старческий маразм! Но так глубокомысленно! И повесть. Сейчас вспомню… А! «Камушки Татарского пролива». Я тебе скажу – у Солоухина идею слизал! «Камушки на ладонях» читал? Нет, конечно! Я сама почитать у одного москвича-корреспондента выпросила на ночь. А тут ты со своим авторским свежим ручьём. Самого Самигуллина завалил! Так что – «Татарам – Татарский пролив»! А не первая премия! А ты, пацан, не расплескать! Ты пишешь, как слышишь. Правду. Не «Ура-ура, в ж..е дыра!» Не стесняешься. И не боишься. Работяга. От сохи. И к тому же… тебе ведь…
– …Двадцать два, – подсказал я. Почему-то вспомнил бабушкины «Два гуся» в лото на этой цифре на бочонке. И застеснялся.
– О! Тем более! Свежая кровь! – просто объяснила она мне литературный сахалинский политес и обратилась к своим рабам:
– Давайте уже снимем его под закадровый текст. Звук не надо!
– А что я тогда тащил в эту гору всю эту хрень? – обиделся уже засыпающий, но бодрящийся звукооператор.
– Утром меня с видом на океан с этого «Казбека» снимем. Стенд-ап.
Вот такого малолетнего они меня и сняли, как положено. Я припаивал к какой-то плате с тогда ещё современным ламповым оборудованием огромный фаянсовый резистор. Даже помню, что на 50 Ом. Он свой уличный блок аппаратуры согревал. Буквально. Где это надо. Я припаивал его туда, куда не надо. Для аппаратуры. А для «картинки» работающего писателя-энтузиаста – прямо в точку. Паяльник пускал в потолок дымок от канифоли. Я делал лицо задумчивого интеллектуала. Стараясь не замечать, как наша журналистка ещё сама себе пару раз наливала. И стала подрёмывать.
– Я тебе так скажу, – возбудилась вдруг проснувшаяся от масштабов моего будущего, уже было засыпающая теледива. – Мне это про тебя моя родная педагог, очень хорошая, вчера… позавчера… сказала: «Вот соблазни такого идиота талантливого, как Кащеев! Замуж за него выйди. И горя не будешь знать…, он работяга. И пишет хорошо. Не напишет, так заработает на основной работе. Не как твои писулькашки. Коллеги. Только языком молоть. А как из редакции выкинут, так только и пьют. Богема, мол, бляха муха! Завтра же напросись про него репортаж снять! На работе, дома… я вот и… поехала…, блин. Уехала…» Тут она окончательно уснула. Причём с храпом.
Мы уложил её на мою постель. Ребята помогли перенести из кресла. И возрадовались. Достала она их, конечно, по-чёрному. И мы так классно с ними ещё посидели…
Вся съёмочная группа решила в ночь не спускаться в гостиницу. Не нашла сил. Заночевала у меня на матрасах на полу. Я натопил печку, расстелил, всё что возможно.
Утром, отсняв стэнд-ап с неожиданно бодрой в кадре журналисткой, мы пошли с этой горы ко мне домой. Все усталые, снежным настом выскобленные, чуть-чуть с похмелья. Эта тележурналистка меня по дороге домой соблазняла потихонечку. Но я был уже женат. Когда она это (!) узнала уже в моей квартире, где ещё и Женя была. Дочь. Она примолкла. Меня снимали эти пацаны, телевизионщики, с особой благодарностью. Снимали на кухне. В тесноте. Так что наливание и выпивание не были видны ни жене, ни журналистке.
Женщины скучали в комнате.
Этого репортажа о победителях конкурса я так и не увидел. Промохал как-то. А с Южно-Сахалинска никто не позвонил. Не предупредил.
Я приехал в Южный уже по приглашению «Союза писателей СССР». В письме заказном прислали. Поехал в чётко названное в приглашении число, месяц и время. Меня никто на вокзале не встретил, само собой. Я двинулся по адресу, указанному на пригласительном. Оказался вовремя в зале какого-то Высокого Собрания, где вручали награды. Оказалось, что такую премию вручают раз в четыре года. Прямо, как чемпионат мира по футболу.
Сижу в зале. Потолки рассматриваю. А там идёт на сцене всё своим чередом. Награждают поэтов, композиторов. Отдельно поэтов-песенников. Даже хоры поют. Исполняют песни-победителей.
Тут хор поёт какое-то попурри на стихи к песням популярного официального сахалинского поэта. Я замираю. Ничего понять не могу! Все нормально всё воспринимают. Но я в одной из песен хора слышу потрясающий ляп! Город Оха на севере Сахалина, теперь известен, как районный центр с бывшим городом Нефтегорском. Его позже полностью разрушило во время землетрясения. Просто сровняло с землёй. Тогда только про Оху в стране узнали. Но это всё было ПОСЛЕ. А тут я сижу и недоумеваю над песней про город Оха. Чуть позже объясню.
Тут вызывают на сцену меня. Вручают премию в конверте. Цветы. Какой-то маститый писатель объявляет, что мой рассказ включён в литературный альманах «Сахалин», который скоро выйдет из печати. А мне шепчет, чтоб я сегодня не уезжал. Банкет, мол, будет. И за премию расписаться нужно.
Нас везут на ВГТРК. Там прямой эфир «Литературного вечера». С лауреатами. По прозе, стихам, музыке. Напомню – 81-ый год. Там «рогатульки-камеры» стоят. Свет накрывающий. Тогда в записи было делать дорого. Всё, что не в студии, на плёнку тогда снимали. И тут! Во время прямого эфира, вдруг, мне, для поддержания разговора между лауреатами, поэт и автор песни про Оху, говорит:
– Знаете, Сергей Геннадьевич, а мне понравилась ваша проза! Но меня несколько насторожило, что, я уже что-то такое читал?! Похожее. Где-то в журнале «Юность». Там также печатают всяких мечтателей… рабочих специальностей. Это, конечно, так и надо. Но нужно, всё же, молодым писателям чи-та-ть, что до них и для них было написано!
Типа я чукча конопатая. Только что из туалета, и руки не помыл.
Вот так вот назидательно «уколол». Потом мне рассказали, что этот «фектовальщик» – председатель Союза писателей Сахалина, и отстаивал в победители конкурса своего друга. Того самого Самигуллина. Но за меня стояли горой на комиссии молодые литераторы. Меня его «укол» несколько завёл. И я в прямом эфире ему ответил, что меня тоже насторожила его необычная строчка в его песне. И процитировал: «Оха – красивый город. Оху ли не любить!» А именно такая строчка прозвучала в песне. Как уж этот ляп прошёл без поправок – ума не приложу! Моя цитата стала криком мальчишки из сказки – «А король-то голый»! Все вдруг разобрали словосочетание.
Я это сказал и замолчал. Всё же прямой эфир. Лучше помалкивать в тряпочку. А тут начали падать из-за камер операторы. Потом посыпались редакторы, гримёры, осветители. Смех в голос все сдерживали. Но общую реакцию председатель Союза писателей видел. Покраснел так, что даже волосы заалели. Гости за столом, остальные лауреаты, прикрылись от камер кулаками и ладошками и незаметно тряслись.
Ведущая всё же взяла себя в руки, глубоко задышала и стала ситуацию разруливать. Мне больше слова не давали. И на банкет забыли пригласить. Пошёл в гостиницу. Благо, премию-то я всё же получил. Наличными.
На следующий день я забежал в редакцию местной молодёжной газеты «Молодая гвардия», где работала моя приятельница, когда-то уговорившая меня прислать ей мои рассказы. Она, как оказалось, и двинула один из них на конкурс. Меня не спросив. Увидев меня, вдруг тут же выскочила из кабинета и через пару секунд ввалилась вместе со всей молодёжной редакцией. Меня поздравляли, и все ржали, как лошади. Оказывается ВСЕ эту «литературную беседу» накануне смотрели. И это моё замечание про песню стало бомбой и анекдотом не только в окололитературных кругах Сахалина, но уже и в Москве. (В Южном с телефонизацией было всё нормально). Именно с этим меня, похоже, и поздравляли.
Правда уже за импровизированным столом, (закусывали папоротником, пен-сё, морской капустой, гребешками и чим-чёй) мне честно и с долей грусти посоветовали с Сахалина уезжать. Мол, «теперь тебе тут писательской карьеры не сделать». Посоветовали начинать всё сначала где-нибудь на материке. «Наши деды-динозавры тебя скушают и мослы бросят в море с крутого бережка, далёкого пролива Лаперуза».
Через несколько месяцев узнал, что мой рассказ даже и из литературного альманаха «Сахалин» умудрились вычеркнуть. Места не хватило. Напечатали Самигуллина. А вот молодёжная газета мой рассказ «Кросс» напечатала! На целый разворот. Молодцы, конечно! Я вот вчера нечаянно свой архив разбирал. Наткнулся на пожелтевшую газету. Вот и вспомнил…
Вот туда-то, в наш вагончик с аппаратурой, где я отрабатывал свои 24 часа смены, куда никто до того не заглядывал никогда в жизни, вдруг ближе к вечеру, зимой, вваливается бригада подмороженных мужиков и одна девушка. Причём снизу они шли вверх по сугробам пешком! В гору с уклоном 30 градусов и с километр подъёма по снегу – нет таких машин в природе. А эти герои притащили на себе ещё и киноаппаратуру. Были ещё упёртые журналисты в те времена!
Это была съёмочная группа Сахалинского ВГТРК. Мужики пёрли тяжелейшие камеры, свет, аппаратуру для звука и редакторшу. Имя её не вспомню, но – молодая, самоуверенная, красивая, наглая, стройная. Тут ещё нужно уточнить, для тех, кто не совсем в курсе. «Камера» в начале восьмидесятых, это не сегодняшняя японская фигня в кулачке, а такая, что вместе со штативом и аккумуляторами весит кг …тридцать. А «Свет», это не современные неонки «1 кг – осветишь Кремль», а железные фонари, только с линзами по полкило каждое. Их конструкцию киношники и телевидение, запросто и естественно, слизали у театральных подсветок. Поэтому там ещё и были «софиты», белые зонтики, зеркала и т. д. Про звук я вообще молчу! Там они притащили ПУЛЬТ! Редактор-журналист была непреклонна! Мне был до этого какой-то странный звонок. – Вы на работе?
– А где бы мне ещё быть?
И эта, молодая и креативно «вся из себя журналистская», леди, попёрла всю съёмочную группу в гору.
Мне было их жаль. Я, конечно, тут же напоил их горячим чаем. И не только чаем. Было в вагончике в закромах. Для протирки важных клемм. Пару килограммов. На самый пожарный случай. Ребята стали с каждой рюмочкой отогреваться и сразу заворчали, как мотор, которому под капот засунули обогреватель. Журналистка-монстр не дала им слова. Я, правда, не понимал совершенно, что они тут делают. К тому же вышки ТВ – это в те времена были объекты из разряда особо охраняемых. Инструкциями. В наш вагончик я даже не имел права никого впускать. Но молодая мегера, замершими пальчиками с фиолетовыми ногтями протянула мне разрешение на съёмку. Подписано моим начальством в области.
Я оторопел. Там, в этом «Разрешении», была написана моя фамилия. Мол, «для съёмок на рабочем месте». «А я-то тут причём?» – совершенно искренно даже не удивился…а поразился я?
Разговаривая со мной, как с дебилом из профилактория имени Фёдора Достоевского, она, закусывая моей, на остальной день до утра рассчитанной едой, сказала: «Вы что, Сергей Геннадьевич, ничо не понЯли? (Ей рюмки хватило). Вы победили в конкурсе рассказа в нашем, (икнула), этом областном конкурсе писателей, поэтов, композиторов. А это проводится раз в четыре года! Вы ПОБЕДИТЕЛЬ! У вас теперь (Ик!) – все двери открыты!»
Я …охренел! Я там что-то отсылал года полтора назад, но не на конкурс, а приятельнице из молодёжной газеты. Но забыл об этом уже начисто.
– Давайте уже снимать! Ты… Вы… Ты что-то тут делай, …паяй, например, Сергей Геннадьевич. А мы снимем!
– Меня можно просто Сергей. Вы бы всё же проверили. Может, ошиблись, – с опаской попросил я, кивая на телефон.
– Никакой ошибки нет! Мы о тебе говорили в редакции. Эти наши старые хрычи вынуждены были тебе Первую Премию дать! Хотели, естественно, Самигуллину всучить. Как всегда. Но он уже сдал по возрасту. Ему уже за семьдесят. Написал за эти четыре последних года два рассказа. Бред! Старческий маразм! Но так глубокомысленно! И повесть. Сейчас вспомню… А! «Камушки Татарского пролива». Я тебе скажу – у Солоухина идею слизал! «Камушки на ладонях» читал? Нет, конечно! Я сама почитать у одного москвича-корреспондента выпросила на ночь. А тут ты со своим авторским свежим ручьём. Самого Самигуллина завалил! Так что – «Татарам – Татарский пролив»! А не первая премия! А ты, пацан, не расплескать! Ты пишешь, как слышишь. Правду. Не «Ура-ура, в ж..е дыра!» Не стесняешься. И не боишься. Работяга. От сохи. И к тому же… тебе ведь…
– …Двадцать два, – подсказал я. Почему-то вспомнил бабушкины «Два гуся» в лото на этой цифре на бочонке. И застеснялся.
– О! Тем более! Свежая кровь! – просто объяснила она мне литературный сахалинский политес и обратилась к своим рабам:
– Давайте уже снимем его под закадровый текст. Звук не надо!
– А что я тогда тащил в эту гору всю эту хрень? – обиделся уже засыпающий, но бодрящийся звукооператор.
– Утром меня с видом на океан с этого «Казбека» снимем. Стенд-ап.
Вот такого малолетнего они меня и сняли, как положено. Я припаивал к какой-то плате с тогда ещё современным ламповым оборудованием огромный фаянсовый резистор. Даже помню, что на 50 Ом. Он свой уличный блок аппаратуры согревал. Буквально. Где это надо. Я припаивал его туда, куда не надо. Для аппаратуры. А для «картинки» работающего писателя-энтузиаста – прямо в точку. Паяльник пускал в потолок дымок от канифоли. Я делал лицо задумчивого интеллектуала. Стараясь не замечать, как наша журналистка ещё сама себе пару раз наливала. И стала подрёмывать.
– Я тебе так скажу, – возбудилась вдруг проснувшаяся от масштабов моего будущего, уже было засыпающая теледива. – Мне это про тебя моя родная педагог, очень хорошая, вчера… позавчера… сказала: «Вот соблазни такого идиота талантливого, как Кащеев! Замуж за него выйди. И горя не будешь знать…, он работяга. И пишет хорошо. Не напишет, так заработает на основной работе. Не как твои писулькашки. Коллеги. Только языком молоть. А как из редакции выкинут, так только и пьют. Богема, мол, бляха муха! Завтра же напросись про него репортаж снять! На работе, дома… я вот и… поехала…, блин. Уехала…» Тут она окончательно уснула. Причём с храпом.
Мы уложил её на мою постель. Ребята помогли перенести из кресла. И возрадовались. Достала она их, конечно, по-чёрному. И мы так классно с ними ещё посидели…
Вся съёмочная группа решила в ночь не спускаться в гостиницу. Не нашла сил. Заночевала у меня на матрасах на полу. Я натопил печку, расстелил, всё что возможно.
Утром, отсняв стэнд-ап с неожиданно бодрой в кадре журналисткой, мы пошли с этой горы ко мне домой. Все усталые, снежным настом выскобленные, чуть-чуть с похмелья. Эта тележурналистка меня по дороге домой соблазняла потихонечку. Но я был уже женат. Когда она это (!) узнала уже в моей квартире, где ещё и Женя была. Дочь. Она примолкла. Меня снимали эти пацаны, телевизионщики, с особой благодарностью. Снимали на кухне. В тесноте. Так что наливание и выпивание не были видны ни жене, ни журналистке.
Женщины скучали в комнате.
Этого репортажа о победителях конкурса я так и не увидел. Промохал как-то. А с Южно-Сахалинска никто не позвонил. Не предупредил.
Я приехал в Южный уже по приглашению «Союза писателей СССР». В письме заказном прислали. Поехал в чётко названное в приглашении число, месяц и время. Меня никто на вокзале не встретил, само собой. Я двинулся по адресу, указанному на пригласительном. Оказался вовремя в зале какого-то Высокого Собрания, где вручали награды. Оказалось, что такую премию вручают раз в четыре года. Прямо, как чемпионат мира по футболу.
Сижу в зале. Потолки рассматриваю. А там идёт на сцене всё своим чередом. Награждают поэтов, композиторов. Отдельно поэтов-песенников. Даже хоры поют. Исполняют песни-победителей.
Тут хор поёт какое-то попурри на стихи к песням популярного официального сахалинского поэта. Я замираю. Ничего понять не могу! Все нормально всё воспринимают. Но я в одной из песен хора слышу потрясающий ляп! Город Оха на севере Сахалина, теперь известен, как районный центр с бывшим городом Нефтегорском. Его позже полностью разрушило во время землетрясения. Просто сровняло с землёй. Тогда только про Оху в стране узнали. Но это всё было ПОСЛЕ. А тут я сижу и недоумеваю над песней про город Оха. Чуть позже объясню.
Тут вызывают на сцену меня. Вручают премию в конверте. Цветы. Какой-то маститый писатель объявляет, что мой рассказ включён в литературный альманах «Сахалин», который скоро выйдет из печати. А мне шепчет, чтоб я сегодня не уезжал. Банкет, мол, будет. И за премию расписаться нужно.
Нас везут на ВГТРК. Там прямой эфир «Литературного вечера». С лауреатами. По прозе, стихам, музыке. Напомню – 81-ый год. Там «рогатульки-камеры» стоят. Свет накрывающий. Тогда в записи было делать дорого. Всё, что не в студии, на плёнку тогда снимали. И тут! Во время прямого эфира, вдруг, мне, для поддержания разговора между лауреатами, поэт и автор песни про Оху, говорит:
– Знаете, Сергей Геннадьевич, а мне понравилась ваша проза! Но меня несколько насторожило, что, я уже что-то такое читал?! Похожее. Где-то в журнале «Юность». Там также печатают всяких мечтателей… рабочих специальностей. Это, конечно, так и надо. Но нужно, всё же, молодым писателям чи-та-ть, что до них и для них было написано!
Типа я чукча конопатая. Только что из туалета, и руки не помыл.
Вот так вот назидательно «уколол». Потом мне рассказали, что этот «фектовальщик» – председатель Союза писателей Сахалина, и отстаивал в победители конкурса своего друга. Того самого Самигуллина. Но за меня стояли горой на комиссии молодые литераторы. Меня его «укол» несколько завёл. И я в прямом эфире ему ответил, что меня тоже насторожила его необычная строчка в его песне. И процитировал: «Оха – красивый город. Оху ли не любить!» А именно такая строчка прозвучала в песне. Как уж этот ляп прошёл без поправок – ума не приложу! Моя цитата стала криком мальчишки из сказки – «А король-то голый»! Все вдруг разобрали словосочетание.
Я это сказал и замолчал. Всё же прямой эфир. Лучше помалкивать в тряпочку. А тут начали падать из-за камер операторы. Потом посыпались редакторы, гримёры, осветители. Смех в голос все сдерживали. Но общую реакцию председатель Союза писателей видел. Покраснел так, что даже волосы заалели. Гости за столом, остальные лауреаты, прикрылись от камер кулаками и ладошками и незаметно тряслись.
Ведущая всё же взяла себя в руки, глубоко задышала и стала ситуацию разруливать. Мне больше слова не давали. И на банкет забыли пригласить. Пошёл в гостиницу. Благо, премию-то я всё же получил. Наличными.
На следующий день я забежал в редакцию местной молодёжной газеты «Молодая гвардия», где работала моя приятельница, когда-то уговорившая меня прислать ей мои рассказы. Она, как оказалось, и двинула один из них на конкурс. Меня не спросив. Увидев меня, вдруг тут же выскочила из кабинета и через пару секунд ввалилась вместе со всей молодёжной редакцией. Меня поздравляли, и все ржали, как лошади. Оказывается ВСЕ эту «литературную беседу» накануне смотрели. И это моё замечание про песню стало бомбой и анекдотом не только в окололитературных кругах Сахалина, но уже и в Москве. (В Южном с телефонизацией было всё нормально). Именно с этим меня, похоже, и поздравляли.
Правда уже за импровизированным столом, (закусывали папоротником, пен-сё, морской капустой, гребешками и чим-чёй) мне честно и с долей грусти посоветовали с Сахалина уезжать. Мол, «теперь тебе тут писательской карьеры не сделать». Посоветовали начинать всё сначала где-нибудь на материке. «Наши деды-динозавры тебя скушают и мослы бросят в море с крутого бережка, далёкого пролива Лаперуза».
Через несколько месяцев узнал, что мой рассказ даже и из литературного альманаха «Сахалин» умудрились вычеркнуть. Места не хватило. Напечатали Самигуллина. А вот молодёжная газета мой рассказ «Кросс» напечатала! На целый разворот. Молодцы, конечно! Я вот вчера нечаянно свой архив разбирал. Наткнулся на пожелтевшую газету. Вот и вспомнил…
Сергей КОЩЕЕВ
~
Другой конец света
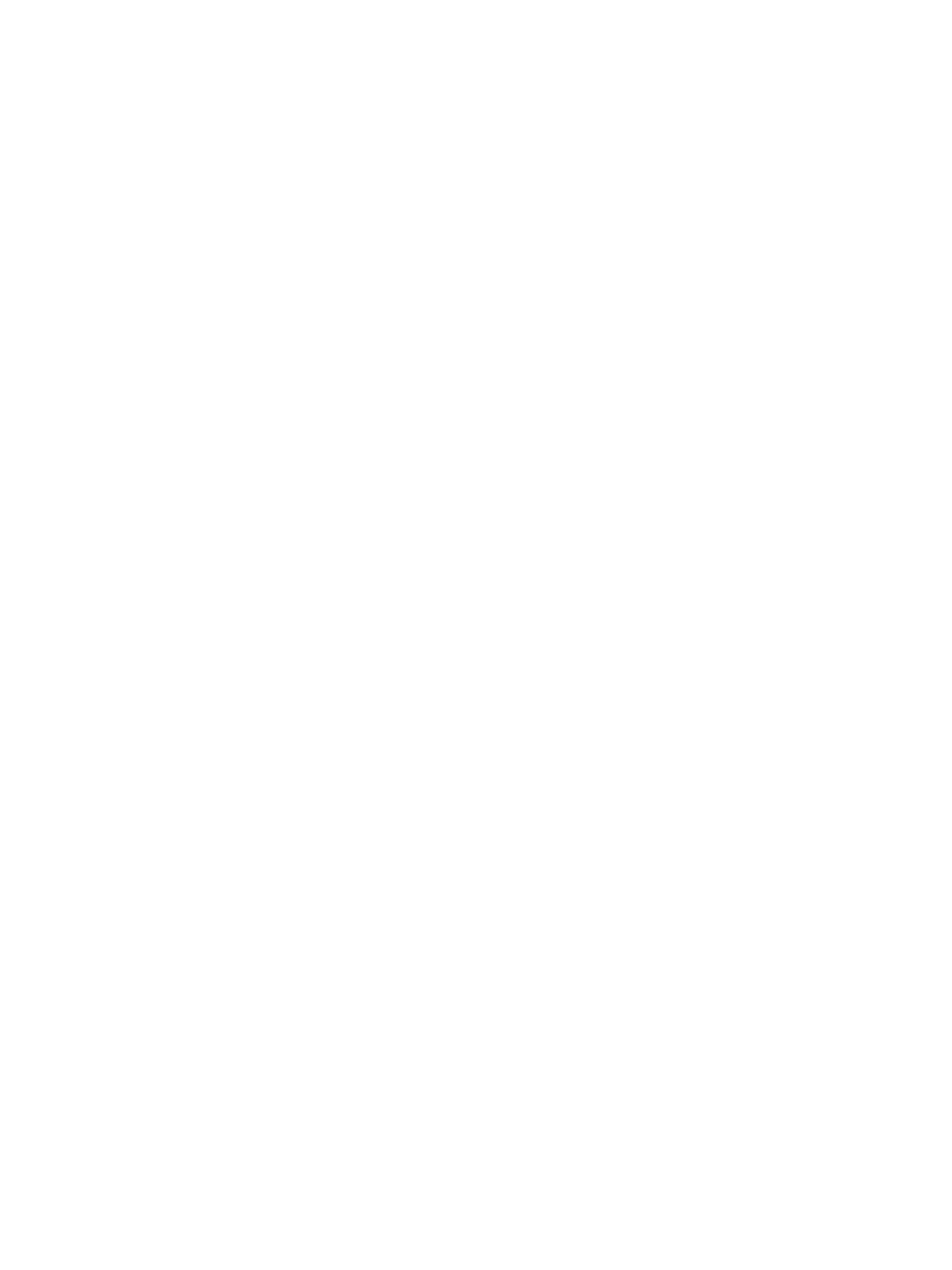
Лариса Новосельская
«
Слово об авторе
Новосельская Лариса Ивановна родилась в 1952 году в станице Динской. Окончила Кубанский государственный университет. Начинала свой журналистский путь в республиканской газете «Марийская правда». Работала собкором газеты «Советская культура» в Марийской ССР.
Сейчас живёт и работает в Краснодаре. Была обозревателем газеты «Советская Кубань», стояла у истоков газет «Краснодарские известия» и «Кубанские новости», была главным редактором газет «Вечерний Краснодар», «Тема», «Улица Красная», молодёжного журнала «Здравствуйте!», директором книжного издательства.
Все годы, несмотря на большую журналистскую нагрузку, Лариса Ивановна писала рассказы, эссе, повести, много путешествовала по миру, и Европа, Африка, Китай, стали не только декорациями для художественных или публицистических произведений, но и возможностью посмотреть на свою страну со стороны, разглядеть самобытность, неповторимость судеб соотечественников.
Сегодня лауреат премии «Золотое перо Кубани», звания «Заслуженный журналист Кубани», член Союза российских писателей Л. И. Новосельская возглавляет Представительство Союза российских писателей в Краснодарском крае, работает с начинающими поэтами и прозаиками.
«Л. И. Новосельская – журналист и прозаик. Как журналист она работает с реалиями и настроениями сегодняшнего дня, изучая и отражая жизнь современной Кубани.
Как прозаик она работает с эмоцией сострадания, горько думая о том, почему мы такие? Такие же, собственно, как увиделось Александру Блоку сто с лишним лет назад: «Что бы ни сделал человек в России, его, прежде всего, жалко. Баба, кому кричишь, всё равно ветра не перекричишь. Мужик, зачем лезешь во второй класс, всё равно не пустят!», – анализирует рассказы и повести Новосельской московский литературный критик Е. Н. Иваницкая.
– Баба Таня в рассказе «Баба Таня» страдает, не смея признаться себе, что страдает.
Подкаблучник-сын её не замечает, невестка ею помыкает¸ внучка-подросток только огрызается. Ещё и завели щенка на бабину голову – мало ей в доме работы. Но баба Таня привязывается к щенку, хотя чувство вспыхнувшей любви постоянно подавляет.
И вспоминает баба Таня, что к маленьким сыновьям своим она относилась так же. «Когда они выбегали за калитку встречать её с работы, она и тогда зажимала это пьяное безоглядное чувство любви. Знала, что не поймут её ни муж, ни свекровь. Словно захлопывала в душе потайную дверцу и вешала на неё тяжёлый замок. Но и поплатилась за это: сыновья выросли неласковыми, чужими».
Почему мы любим, а любить не умеем? Вопрос без ответа, – пишет критик. – Когда баба Таня умирает, невестка голосит на похоронах, внучка с удивлением смотрит на мать и ночью плачет. Сын слышит её всхлипывания, но молча смотрит в потолок, «словно надеясь прочесть там что-то очень важное, чего за всю жизнь так и не понял».
Этот чеховский мотив и это безответные вопросы старика Якова Бронзы из рассказа «Скрипка Ротшильда»: «Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену? Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу!»
Своеобразие, оригинальность и в то же время узнаваемость, типичность отличает героев повестей и рассказов «Артист погорелого театра», «Последний шанс», «Пани Валевская» и других. Все они выписаны объёмно, ярко и, что самое главное, с теплотой, пониманием и безграничной любовью. Эти герои, по русской литературной традиции, «вышли из гоголевской «Шинели». Они – «маленькие люди» большой страны, которая не знает в своей истории ни затишья, ни покоя, ни любви к населяющим её людям.
«А вот это действительно повести в том классическом варианте, который описал Белинский.
«Листки из жизни», в которых отражается вся жизнь, – экономные в средствах, построенные на типическом сюжете с типовыми героями, но… прочитал одну – ещё хочется. Потому что заставляют думать и грустить», – такую рецензию книге Л. И. Новосельской «Высокая жёлтая нота», представленную на литературную премию имени Белкина, дал российский литературный журнал «Знамя».
Последняя книга Л. И. Новосельской «Бедные мы, бедные» вошла в шот-листы российских литературных премий имени В. Распутина и Н. В. Гоголя.
Редакция «Новой газеты Кубани» желает своему автору дальнейших творческих успехов и широкого читательского признания и представляет рассказ «Другой конец света».
Новосельская Лариса Ивановна родилась в 1952 году в станице Динской. Окончила Кубанский государственный университет. Начинала свой журналистский путь в республиканской газете «Марийская правда». Работала собкором газеты «Советская культура» в Марийской ССР.
Сейчас живёт и работает в Краснодаре. Была обозревателем газеты «Советская Кубань», стояла у истоков газет «Краснодарские известия» и «Кубанские новости», была главным редактором газет «Вечерний Краснодар», «Тема», «Улица Красная», молодёжного журнала «Здравствуйте!», директором книжного издательства.
Все годы, несмотря на большую журналистскую нагрузку, Лариса Ивановна писала рассказы, эссе, повести, много путешествовала по миру, и Европа, Африка, Китай, стали не только декорациями для художественных или публицистических произведений, но и возможностью посмотреть на свою страну со стороны, разглядеть самобытность, неповторимость судеб соотечественников.
Сегодня лауреат премии «Золотое перо Кубани», звания «Заслуженный журналист Кубани», член Союза российских писателей Л. И. Новосельская возглавляет Представительство Союза российских писателей в Краснодарском крае, работает с начинающими поэтами и прозаиками.
«Л. И. Новосельская – журналист и прозаик. Как журналист она работает с реалиями и настроениями сегодняшнего дня, изучая и отражая жизнь современной Кубани.
Как прозаик она работает с эмоцией сострадания, горько думая о том, почему мы такие? Такие же, собственно, как увиделось Александру Блоку сто с лишним лет назад: «Что бы ни сделал человек в России, его, прежде всего, жалко. Баба, кому кричишь, всё равно ветра не перекричишь. Мужик, зачем лезешь во второй класс, всё равно не пустят!», – анализирует рассказы и повести Новосельской московский литературный критик Е. Н. Иваницкая.
– Баба Таня в рассказе «Баба Таня» страдает, не смея признаться себе, что страдает.
Подкаблучник-сын её не замечает, невестка ею помыкает¸ внучка-подросток только огрызается. Ещё и завели щенка на бабину голову – мало ей в доме работы. Но баба Таня привязывается к щенку, хотя чувство вспыхнувшей любви постоянно подавляет.
И вспоминает баба Таня, что к маленьким сыновьям своим она относилась так же. «Когда они выбегали за калитку встречать её с работы, она и тогда зажимала это пьяное безоглядное чувство любви. Знала, что не поймут её ни муж, ни свекровь. Словно захлопывала в душе потайную дверцу и вешала на неё тяжёлый замок. Но и поплатилась за это: сыновья выросли неласковыми, чужими».
Почему мы любим, а любить не умеем? Вопрос без ответа, – пишет критик. – Когда баба Таня умирает, невестка голосит на похоронах, внучка с удивлением смотрит на мать и ночью плачет. Сын слышит её всхлипывания, но молча смотрит в потолок, «словно надеясь прочесть там что-то очень важное, чего за всю жизнь так и не понял».
Этот чеховский мотив и это безответные вопросы старика Якова Бронзы из рассказа «Скрипка Ротшильда»: «Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену? Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу!»
Своеобразие, оригинальность и в то же время узнаваемость, типичность отличает героев повестей и рассказов «Артист погорелого театра», «Последний шанс», «Пани Валевская» и других. Все они выписаны объёмно, ярко и, что самое главное, с теплотой, пониманием и безграничной любовью. Эти герои, по русской литературной традиции, «вышли из гоголевской «Шинели». Они – «маленькие люди» большой страны, которая не знает в своей истории ни затишья, ни покоя, ни любви к населяющим её людям.
«А вот это действительно повести в том классическом варианте, который описал Белинский.
«Листки из жизни», в которых отражается вся жизнь, – экономные в средствах, построенные на типическом сюжете с типовыми героями, но… прочитал одну – ещё хочется. Потому что заставляют думать и грустить», – такую рецензию книге Л. И. Новосельской «Высокая жёлтая нота», представленную на литературную премию имени Белкина, дал российский литературный журнал «Знамя».
Последняя книга Л. И. Новосельской «Бедные мы, бедные» вошла в шот-листы российских литературных премий имени В. Распутина и Н. В. Гоголя.
Редакция «Новой газеты Кубани» желает своему автору дальнейших творческих успехов и широкого читательского признания и представляет рассказ «Другой конец света».
»
Когда к перрону подкатила яркая, сияющая огнями двухэтажная электричка, Павел только выдохнул:
– У-у-ух какая!
– Красивая? – с нескрываемой гордостью спросила Аня-тян, его персональный гид по Китаю.
– Ужасно красивая! – как мальчишка воскликнул он.
Аня прыснула в кулак:
– Русские – такие смешные! Сначала говорят «ужасно», а потом «красиво».
Они вошли в новенький, ещё пахнувший свежей краской вагон, сели в кресла с высокими, покрытыми белыми кружевными салфетками подголовниками, и Павел с нетерпеливым любопытством стал разглядывать пассажиров.
В чужой стране его интересовали не «колизеи», как он называл достопримечательности из туристических справочников, а люди.
Сначала вглубь вагона его взгляд так и не проник, задержавшись на соседях напротив: улыбчивом молодом человеке, который по восточной традиции «любезность и церемонность» кивал ему всякий раз, когда Павел встречался с ним глазами, и такого же доброжелательного старика с удивительно моложавым, без морщин, лицом.
«Надо же! Другой конец света! А как похож!» – ахнул про себя Павел, и сердце его тут же зашлось от привычной боли.
«Тоска из фазы ремиссии переходит в стадию обострения», – попытался он справиться с собой, в то же время понимая, насколько это бесполезно.
…В облике его отца всегда сквозило что-то восточное. Узкий разрез карих, ярких глаз, свежая кожа, натянутая на скулах, крупные и крепкие зубы.
В последние годы он тихо сидел в дальней комнате на диване, положив на лоб сухой носовой платок, якобы спасающий от головной боли. Когда его просили прилечь, отдохнуть, вот с такой же китайской улыбкой отвечал:
– На кладбище отдохну.
Павел до сих пор не понимает, как он мог равнодушно проходить мимо этой величественной и беспомощной фигуры, усмехаться про себя, вспоминая книжные определения типа «осень патриарха», и не подсесть к отцу, не взять его за руку. Да хотя бы смочить холодной водой этот несчастный платок, который будет теперь укором сопровождать его до конца жизни, как булгаковскую Фриду…
Аня-тян, заметив интерес туриста к соседям, добросовестно принялась рассказывать, что это сын сопровождает отца в поездке к родственникам. Что одних стариков отпускать в Китае не принято, даже бодрых и здоровых.
Её высокий голос звучал заученно ровно, она очень старалась правильно строить длинные фразы на чужом языке. Но Павел уже не слушал, охваченный знакомой тоской, которая накатывала, как прилив, и с которой, он знал, тягаться напрасно. Проще погрузиться в неё и ждать, когда она, как вода, омоет все расщелины памяти. Лишь тогда станет легче.
А пока он задавал себе привычный, как «что делать – кто виноват» вопрос: почему предательски бросил отца в то утро? Ведь старик, как ребёнок, надеялся на него и ждал.
– Сынок, когда же мы поедем на рыбалку? – голос прозвучал так рядом и громко, что Павел даже вздрогнул и с надеждой посмотрел на китайца. Тот, конечно, закивал головой и заулыбался.
Павел тоже растянул в улыбке губы, чувствуя, как к глазам неудержимо подступают слёзы.
…В тёмном пыльном сарае, куда Павел после похорон старался не заходить, в самом углу, запутавшись лесками, стояли удочки, штук десять, не меньше. В былые времена отец, наводя порядок среди стамесок, отвёрток, рубанков и других орудий домашнего производства, выволакивал удочки на солнышко и долго мудрил над ними, прилаживая блесну или крючок, полируя удилища и латая суровыми нитками садки.
А потом наступало особое, воскресное утро… Ровно в пять часов сильные ласковые руки сгребали Павла вместе с одеялом и укладывали на заднее сиденье «Москвича».
Пока они ехали к речке, в село Красносельское, за окном светало, и тополя, бегущие вдоль дороги стройными рядами, из зловеще-чёрных превращались в нежно-зелёные, а потом, пронизанные первыми лучами солнца, светились изумрудами.
Павел и спал, и не спал, и грезил, и бессвязно о чём-то думал, купаясь в рассеянно-туманном свете, уюте и зародышевом покое.
Через годы, когда он, раздавленный взрослыми проблемами, ворочался в кровати без сна, усилием воли заставлял память, как объектив фотоаппарата, сфокусироваться на этой дороге и широкой спине отца, заслоняющей от огромного тревожного мира. И Павел тут же чудесным образом успокаивался и, защищённый прочной крепостной стеной, засыпал, видя во сне розовое утро и рыжего мальчишку, стоявшего на обочине. Отец всегда останавливался и сажал его в машину, смешно называя «хлопчиком».
Потом тут же, во сне, наступала ночь, и уже сам Павел яркими фарами своего «Форда» высвечивал на обочине одинокую фигурку с поднятой рукой и, не снижая скорости, пролетал мимо. Сразу накатывала тоска, и, как ни убеждал он себя, что время сейчас другое, в глубине души твёрдо знал, что отец бы так никогда не поступил, не оставил одинокого человека на пустынной дороге.
И Павел опять просыпался, и долго лежал, глядя в сереющее окно, и тянулся мыслями в прошлое.
…Улов, как правило, был невелик – пять-шесть солидных карасиков. Прочую мелюзгу, по совету отца, он возвращал речке: пусть плывут, растут, живут!
О чём, кроме крючков и наживок, разговаривали они в те зыбкие утра? Да и говорил, и слушал ли Павел тогда или думал о своём, о важном? К счастью, у отца, человека компанейского, даже в неурочный час на пустынном берегу находился собеседник. Из тумана, как правило, выныривал мужичок рыбачок, приветливо здоровался и почтительно интересовался:
– Как жизнь, Иван Семёнович?
– Прошла! – радостно сообщал отец и, легко входя в роль закадычного друга, начинал балагурить:
– Ну что, Петрович, машинка работает?
Мужичок притворно возмущался:
– Да ты что, парторг, какая машинка? Да и Васильевич я, а не Петрович!
– А, ну да, Васильич, – нисколько не смущался отец. И гнул свою линию:
– Ну так как, на семейном фронте, воюешь?
– Отвоевался, скоро шестьдесят стукнет!
– Так ты же хлопчик, по сравнению со мной!
И начинался разговор «за жизнь», который Павлу в ту пору был непонятен и неинтересен.
Это сейчас бы он, балбес, расспросил отца, из каких они вышли казаков, за что закололи штыком деда, что случилось с сестрой отца, угнанной в Германию. Но пока отец был жив, у него как будто и прошлого не было, одни только семейные анекдоты.
– Воевал на Малой земле? Так может и с Брежневым виделся?
Отец хитро прищуривался и вяло подтверждал, что да, встречал в окопах дорогого Леонида Ильича.
А поскольку такие разговоры велись в момент застолья на День Победы, дипломатично прекращал мемуары, затягивая любимую «Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета…», и гости с домочадцами не без удовольствия подхватывали: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою»!
Вот и все подвиги.
Но ведь откуда-то взялись ордена и медали, доверху заполнившие жестяную коробку от печенья? А глубокий шрам от осколка, на который Павел наткнулся, снаряжая отца в последний путь?
Он, конечно, видел орденские планки на выходном бостоновом пиджаке, как и друзей-однополчан с иконостасами» на всю грудь… Но это было всё равно, как смотреть кино или читать книжку: поучительно, местами интересно, но к тебе не имеет ни малейшего отношения.
Что ещё он знал о прошлом отца? Про то, как неделю в кутузке отсидел, тот не распространялся, только отшучивался. А ведь дело было в сорок шестом, мог и в лагерь загреметь. Был бы человек, а дело на него найдётся...
Семейная легенда гласит, что якобы в одной компании, изрядно подвыпив, отец подобрал к слову «констититуция» саму собой напрашивающуюся рифму. Вот за эту немудрёную поэзию его и взяли той же ночью. Благо, стукачей у нас всегда хватало.
Не зря же тот давний случай научил добродушного, весёлого, словоохотливого человека частенько повторять уже взрослому сыну: «Не болтай!»
И прикладывать палец к губам, как на старом плакате.
Нет, отец, конечно, не был диссидентом. И в коммунизм верил, как в бога. Кому сейчас расскажи, покрутят пальцем у виска и назовут блаженным. А ведь он всерьёз уступил свою очередь на квартиру семье многодетного слесаря. Павел помнит, как мать долго ворчала, что так и помрёт без удобств и центрального отопления. Ворчать ворчала, а сама тревожилась, что люди скажут, и пресекала всяческие попытки подвести её до работы на служебной машине. Топала пешком три километра, упрямая!
Но это их выбор, их история. А история предательства Павла начинается вот с чего:
Отцу было под восемьдесят, когда его настиг страшный удар – лишение водительских прав. Это его-то, который после рюмки за руль никогда не садился! А тут «Москвич» вообще стоял на дороге у дома, а какой-то ухарь въехал ему в багажник. Отец на свою голову вспомнил, что накануне гостил у друзей и… побежал домой прополоскать рот «Шипром»!
Лишившись «прав», отец сдулся, как проколотый воздушный шарик. Он сдал до такой степени, что Павел испугался и пообещал выхлопотать в ГАИ возврат документов. Отец и верил, и не верил.
Конечно, не верил. Потому что, когда сын соорудил ему искусную подделку, он повертел её в руках, вздохнул и положил в старую папку с пожелтевшими документами. А верного «Москвича» загнал в гараж. На вечную стоянку.
Лишившись независимого передвижения, отец как будто лишился и добродушия, и энергии, и чувства юмора. Стал «невыездным», как горько шутил Павел, не понимая всей глубины отцовского отчаяния и грядущей тяжести своей вины.
– Сынок, ты не собираешься на рыбалку? – делал отец заход накануне выходных.
– У меня заказ горит, какая рыбалка!? – отмахивался Павел.
Проходила ещё пара недель, отец терпеливо ждал, но смотрел умоляюще...
– Понимаешь, мы тут с ребятами в Домбай собрались смотаться. Так что ты подожди с рыбалкой, выберемся как-нибудь, я обещаю, – врал Павел и густо краснел.
– Хорошо, хорошо, – послушно соглашался отец. – Я подожду, куда мне спешить.
«Да мне, мне, дураку, надо было спешить! – казнился Павел, покачиваясь в мягкой электричке. Преданный китайский сын читал газету и время от времени что-то записывал в аккуратный блокнотик. Старик, сложив руки на толстой трости, дремал, и даже во сне уголки его сочных губ тянулись вверх, начиная улыбку.
...Став невыездным, отец вот так же сидел на лавочке под вишней и улыбался всем прохожим – знакомым и незнакомым.
Видит Бог, Павел не думал его огорчать. Взболтнула жена. Отец позвонил, она и ляпнула, что Паша с ребятами поехал на рыбалку.
И всё в тот день было хорошо; клёв, уха, шашлыки, местные сговорчивые барышни, разбавившие холостую компанию. Если бы не возвращение…
Он подъехал к родительскому дому в сумерках – сытый, довольный, в прекрасном настроении. И наткнулся на сидящего у калитки дремлющего отца. В соломенной шляпе, сдвинутой на лоб, в резиновых сапогах, в старой брезентовой куртке – в полной экипировке для рыбалки. Надеялся, вдруг сын вспомнит о старике, вдруг заедет? Вместо трости он сжимал в руках связку удочек. Даже во сне держал их так крепко, что побелели костяшки пальцев.
Павел круто развернулся и, не оглядываясь, побежал к машине, поливая себя последними словами и утешаясь обещаниями.
В следующее же воскресенье он свозит отца на речку, возьмёт у соседа лодку. Найдёт самых толстых опарышей! Купит новую, дорогую удочку!
Но через неделю отцу уже не нужны были ни удочка, ни лодка, ни даже разговор с сыном…
…Электричка подкатила к перрону «маленького», всего на пять миллионов жителей, как сказала Аня-тян, городу Суджоу.
Молодой попутчик аккуратно сложил газету и спрятал её в дипломат, старик открыл глаза и таким радостным взором оглядел мир, как будто видел его впервые.
– Подъём! – скомандовала Аня и, довольная своей лингвистической находкой, гордо посмотрела на своего туриста.
– Подъём, – вяло отозвался он.
Их попутчики уже раскланялись и направились к выходу. Как вдруг Павел, как будто помимо своей воли, неожиданно громко крикнул:
– Отец!
Взоры всех без исключения пассажиров обратились к нему.
Аня-тян встревожилась: она никогда не видела своего подопечного таким взволнованным.
А Павел, прорываясь сквозь толпу, уже летел к старику-китайцу, уже обнимал его и, что-то горячо и бессвязно бормоча, прижимал к себе. Тот, не сопротивляясь, предоставлял своё крепко сбитое тело для объятий. Его сын, замерев, с удивлением наблюдал эту сцену, на всякий случай улыбаясь.
Наконец Павел пришёл в себя и отпустил старика. Рядом уже стояла надёжная Аня-тян.
– Слово отец, – гордо продекламировала она, – символизирует человеческую мудрость и опыт. Вы поприветствовали этого немолодого человека, как представителя всех старейшин на планете!
– Хорошо сформулировала, девочка, – похвалил Павел. – Именно как представителя. Лучше не скажешь.
А отец по перрону уходил от него всё дальше и дальше. Вот его небольшую плотную фигурку поглотила вокзальная толпа, вот он растворился в Поднебесной, вот он уже где-то на небесах…
– Прости, отец!
Краснодар – Шанхай
– У-у-ух какая!
– Красивая? – с нескрываемой гордостью спросила Аня-тян, его персональный гид по Китаю.
– Ужасно красивая! – как мальчишка воскликнул он.
Аня прыснула в кулак:
– Русские – такие смешные! Сначала говорят «ужасно», а потом «красиво».
Они вошли в новенький, ещё пахнувший свежей краской вагон, сели в кресла с высокими, покрытыми белыми кружевными салфетками подголовниками, и Павел с нетерпеливым любопытством стал разглядывать пассажиров.
В чужой стране его интересовали не «колизеи», как он называл достопримечательности из туристических справочников, а люди.
Сначала вглубь вагона его взгляд так и не проник, задержавшись на соседях напротив: улыбчивом молодом человеке, который по восточной традиции «любезность и церемонность» кивал ему всякий раз, когда Павел встречался с ним глазами, и такого же доброжелательного старика с удивительно моложавым, без морщин, лицом.
«Надо же! Другой конец света! А как похож!» – ахнул про себя Павел, и сердце его тут же зашлось от привычной боли.
«Тоска из фазы ремиссии переходит в стадию обострения», – попытался он справиться с собой, в то же время понимая, насколько это бесполезно.
…В облике его отца всегда сквозило что-то восточное. Узкий разрез карих, ярких глаз, свежая кожа, натянутая на скулах, крупные и крепкие зубы.
В последние годы он тихо сидел в дальней комнате на диване, положив на лоб сухой носовой платок, якобы спасающий от головной боли. Когда его просили прилечь, отдохнуть, вот с такой же китайской улыбкой отвечал:
– На кладбище отдохну.
Павел до сих пор не понимает, как он мог равнодушно проходить мимо этой величественной и беспомощной фигуры, усмехаться про себя, вспоминая книжные определения типа «осень патриарха», и не подсесть к отцу, не взять его за руку. Да хотя бы смочить холодной водой этот несчастный платок, который будет теперь укором сопровождать его до конца жизни, как булгаковскую Фриду…
Аня-тян, заметив интерес туриста к соседям, добросовестно принялась рассказывать, что это сын сопровождает отца в поездке к родственникам. Что одних стариков отпускать в Китае не принято, даже бодрых и здоровых.
Её высокий голос звучал заученно ровно, она очень старалась правильно строить длинные фразы на чужом языке. Но Павел уже не слушал, охваченный знакомой тоской, которая накатывала, как прилив, и с которой, он знал, тягаться напрасно. Проще погрузиться в неё и ждать, когда она, как вода, омоет все расщелины памяти. Лишь тогда станет легче.
А пока он задавал себе привычный, как «что делать – кто виноват» вопрос: почему предательски бросил отца в то утро? Ведь старик, как ребёнок, надеялся на него и ждал.
– Сынок, когда же мы поедем на рыбалку? – голос прозвучал так рядом и громко, что Павел даже вздрогнул и с надеждой посмотрел на китайца. Тот, конечно, закивал головой и заулыбался.
Павел тоже растянул в улыбке губы, чувствуя, как к глазам неудержимо подступают слёзы.
…В тёмном пыльном сарае, куда Павел после похорон старался не заходить, в самом углу, запутавшись лесками, стояли удочки, штук десять, не меньше. В былые времена отец, наводя порядок среди стамесок, отвёрток, рубанков и других орудий домашнего производства, выволакивал удочки на солнышко и долго мудрил над ними, прилаживая блесну или крючок, полируя удилища и латая суровыми нитками садки.
А потом наступало особое, воскресное утро… Ровно в пять часов сильные ласковые руки сгребали Павла вместе с одеялом и укладывали на заднее сиденье «Москвича».
Пока они ехали к речке, в село Красносельское, за окном светало, и тополя, бегущие вдоль дороги стройными рядами, из зловеще-чёрных превращались в нежно-зелёные, а потом, пронизанные первыми лучами солнца, светились изумрудами.
Павел и спал, и не спал, и грезил, и бессвязно о чём-то думал, купаясь в рассеянно-туманном свете, уюте и зародышевом покое.
Через годы, когда он, раздавленный взрослыми проблемами, ворочался в кровати без сна, усилием воли заставлял память, как объектив фотоаппарата, сфокусироваться на этой дороге и широкой спине отца, заслоняющей от огромного тревожного мира. И Павел тут же чудесным образом успокаивался и, защищённый прочной крепостной стеной, засыпал, видя во сне розовое утро и рыжего мальчишку, стоявшего на обочине. Отец всегда останавливался и сажал его в машину, смешно называя «хлопчиком».
Потом тут же, во сне, наступала ночь, и уже сам Павел яркими фарами своего «Форда» высвечивал на обочине одинокую фигурку с поднятой рукой и, не снижая скорости, пролетал мимо. Сразу накатывала тоска, и, как ни убеждал он себя, что время сейчас другое, в глубине души твёрдо знал, что отец бы так никогда не поступил, не оставил одинокого человека на пустынной дороге.
И Павел опять просыпался, и долго лежал, глядя в сереющее окно, и тянулся мыслями в прошлое.
…Улов, как правило, был невелик – пять-шесть солидных карасиков. Прочую мелюзгу, по совету отца, он возвращал речке: пусть плывут, растут, живут!
О чём, кроме крючков и наживок, разговаривали они в те зыбкие утра? Да и говорил, и слушал ли Павел тогда или думал о своём, о важном? К счастью, у отца, человека компанейского, даже в неурочный час на пустынном берегу находился собеседник. Из тумана, как правило, выныривал мужичок рыбачок, приветливо здоровался и почтительно интересовался:
– Как жизнь, Иван Семёнович?
– Прошла! – радостно сообщал отец и, легко входя в роль закадычного друга, начинал балагурить:
– Ну что, Петрович, машинка работает?
Мужичок притворно возмущался:
– Да ты что, парторг, какая машинка? Да и Васильевич я, а не Петрович!
– А, ну да, Васильич, – нисколько не смущался отец. И гнул свою линию:
– Ну так как, на семейном фронте, воюешь?
– Отвоевался, скоро шестьдесят стукнет!
– Так ты же хлопчик, по сравнению со мной!
И начинался разговор «за жизнь», который Павлу в ту пору был непонятен и неинтересен.
Это сейчас бы он, балбес, расспросил отца, из каких они вышли казаков, за что закололи штыком деда, что случилось с сестрой отца, угнанной в Германию. Но пока отец был жив, у него как будто и прошлого не было, одни только семейные анекдоты.
– Воевал на Малой земле? Так может и с Брежневым виделся?
Отец хитро прищуривался и вяло подтверждал, что да, встречал в окопах дорогого Леонида Ильича.
А поскольку такие разговоры велись в момент застолья на День Победы, дипломатично прекращал мемуары, затягивая любимую «Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета…», и гости с домочадцами не без удовольствия подхватывали: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою»!
Вот и все подвиги.
Но ведь откуда-то взялись ордена и медали, доверху заполнившие жестяную коробку от печенья? А глубокий шрам от осколка, на который Павел наткнулся, снаряжая отца в последний путь?
Он, конечно, видел орденские планки на выходном бостоновом пиджаке, как и друзей-однополчан с иконостасами» на всю грудь… Но это было всё равно, как смотреть кино или читать книжку: поучительно, местами интересно, но к тебе не имеет ни малейшего отношения.
Что ещё он знал о прошлом отца? Про то, как неделю в кутузке отсидел, тот не распространялся, только отшучивался. А ведь дело было в сорок шестом, мог и в лагерь загреметь. Был бы человек, а дело на него найдётся...
Семейная легенда гласит, что якобы в одной компании, изрядно подвыпив, отец подобрал к слову «констититуция» саму собой напрашивающуюся рифму. Вот за эту немудрёную поэзию его и взяли той же ночью. Благо, стукачей у нас всегда хватало.
Не зря же тот давний случай научил добродушного, весёлого, словоохотливого человека частенько повторять уже взрослому сыну: «Не болтай!»
И прикладывать палец к губам, как на старом плакате.
Нет, отец, конечно, не был диссидентом. И в коммунизм верил, как в бога. Кому сейчас расскажи, покрутят пальцем у виска и назовут блаженным. А ведь он всерьёз уступил свою очередь на квартиру семье многодетного слесаря. Павел помнит, как мать долго ворчала, что так и помрёт без удобств и центрального отопления. Ворчать ворчала, а сама тревожилась, что люди скажут, и пресекала всяческие попытки подвести её до работы на служебной машине. Топала пешком три километра, упрямая!
Но это их выбор, их история. А история предательства Павла начинается вот с чего:
Отцу было под восемьдесят, когда его настиг страшный удар – лишение водительских прав. Это его-то, который после рюмки за руль никогда не садился! А тут «Москвич» вообще стоял на дороге у дома, а какой-то ухарь въехал ему в багажник. Отец на свою голову вспомнил, что накануне гостил у друзей и… побежал домой прополоскать рот «Шипром»!
Лишившись «прав», отец сдулся, как проколотый воздушный шарик. Он сдал до такой степени, что Павел испугался и пообещал выхлопотать в ГАИ возврат документов. Отец и верил, и не верил.
Конечно, не верил. Потому что, когда сын соорудил ему искусную подделку, он повертел её в руках, вздохнул и положил в старую папку с пожелтевшими документами. А верного «Москвича» загнал в гараж. На вечную стоянку.
Лишившись независимого передвижения, отец как будто лишился и добродушия, и энергии, и чувства юмора. Стал «невыездным», как горько шутил Павел, не понимая всей глубины отцовского отчаяния и грядущей тяжести своей вины.
– Сынок, ты не собираешься на рыбалку? – делал отец заход накануне выходных.
– У меня заказ горит, какая рыбалка!? – отмахивался Павел.
Проходила ещё пара недель, отец терпеливо ждал, но смотрел умоляюще...
– Понимаешь, мы тут с ребятами в Домбай собрались смотаться. Так что ты подожди с рыбалкой, выберемся как-нибудь, я обещаю, – врал Павел и густо краснел.
– Хорошо, хорошо, – послушно соглашался отец. – Я подожду, куда мне спешить.
«Да мне, мне, дураку, надо было спешить! – казнился Павел, покачиваясь в мягкой электричке. Преданный китайский сын читал газету и время от времени что-то записывал в аккуратный блокнотик. Старик, сложив руки на толстой трости, дремал, и даже во сне уголки его сочных губ тянулись вверх, начиная улыбку.
...Став невыездным, отец вот так же сидел на лавочке под вишней и улыбался всем прохожим – знакомым и незнакомым.
Видит Бог, Павел не думал его огорчать. Взболтнула жена. Отец позвонил, она и ляпнула, что Паша с ребятами поехал на рыбалку.
И всё в тот день было хорошо; клёв, уха, шашлыки, местные сговорчивые барышни, разбавившие холостую компанию. Если бы не возвращение…
Он подъехал к родительскому дому в сумерках – сытый, довольный, в прекрасном настроении. И наткнулся на сидящего у калитки дремлющего отца. В соломенной шляпе, сдвинутой на лоб, в резиновых сапогах, в старой брезентовой куртке – в полной экипировке для рыбалки. Надеялся, вдруг сын вспомнит о старике, вдруг заедет? Вместо трости он сжимал в руках связку удочек. Даже во сне держал их так крепко, что побелели костяшки пальцев.
Павел круто развернулся и, не оглядываясь, побежал к машине, поливая себя последними словами и утешаясь обещаниями.
В следующее же воскресенье он свозит отца на речку, возьмёт у соседа лодку. Найдёт самых толстых опарышей! Купит новую, дорогую удочку!
Но через неделю отцу уже не нужны были ни удочка, ни лодка, ни даже разговор с сыном…
…Электричка подкатила к перрону «маленького», всего на пять миллионов жителей, как сказала Аня-тян, городу Суджоу.
Молодой попутчик аккуратно сложил газету и спрятал её в дипломат, старик открыл глаза и таким радостным взором оглядел мир, как будто видел его впервые.
– Подъём! – скомандовала Аня и, довольная своей лингвистической находкой, гордо посмотрела на своего туриста.
– Подъём, – вяло отозвался он.
Их попутчики уже раскланялись и направились к выходу. Как вдруг Павел, как будто помимо своей воли, неожиданно громко крикнул:
– Отец!
Взоры всех без исключения пассажиров обратились к нему.
Аня-тян встревожилась: она никогда не видела своего подопечного таким взволнованным.
А Павел, прорываясь сквозь толпу, уже летел к старику-китайцу, уже обнимал его и, что-то горячо и бессвязно бормоча, прижимал к себе. Тот, не сопротивляясь, предоставлял своё крепко сбитое тело для объятий. Его сын, замерев, с удивлением наблюдал эту сцену, на всякий случай улыбаясь.
Наконец Павел пришёл в себя и отпустил старика. Рядом уже стояла надёжная Аня-тян.
– Слово отец, – гордо продекламировала она, – символизирует человеческую мудрость и опыт. Вы поприветствовали этого немолодого человека, как представителя всех старейшин на планете!
– Хорошо сформулировала, девочка, – похвалил Павел. – Именно как представителя. Лучше не скажешь.
А отец по перрону уходил от него всё дальше и дальше. Вот его небольшую плотную фигурку поглотила вокзальная толпа, вот он растворился в Поднебесной, вот он уже где-то на небесах…
– Прости, отец!
Краснодар – Шанхай
Лариса НОВОСЕЛЬСКАЯ
~
Последние четыре
капли терпения
капли терпения
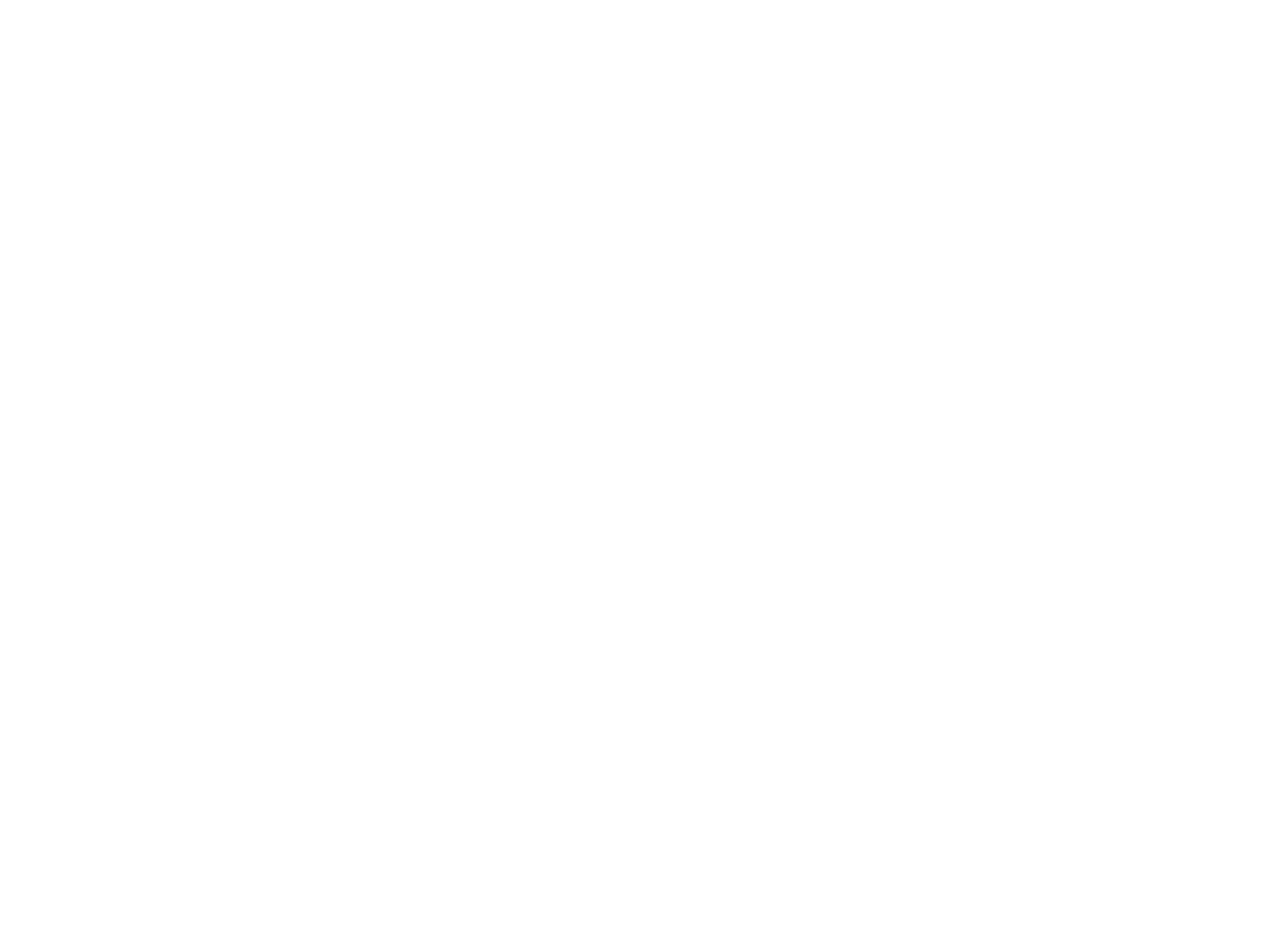
Сергей
Кащеев
Кащеев
Вообще-то это не должна была быть чья-то режиссёрская работа. Это считался как общий спектакль. Выпускной спектакль на пятом курсе по пьесе Розова «Четыре капли». Поставили ту каплю, где задействовать можно было максимальное число актёров. Ту, где была всеобщая пьянка. По итогам спектакля каждому участвующему выводили оценку за «Мастерство актёра». Достаточно было просто посидеть за праздничным столом, чуть подыгрывать реакцией на реплики актёров с текстом.
Неформально режиссёром был Толик Васильев. Взялся за это дело профессионально и ответственно. Так и должно было быть. Он ведь учился в нашем институте двадцать лет! Каждый год обучения прерывался годами академических отпусков. Его однокурсники и приятели у него уже преподавали! Так уже с нами и доковылял до диплома.
Когда он пришёл в группу, кажется, на третьем курсе, мы с Гончаровым решили его проверить на вшивость. Наш очень художественный руководитель курса решила поставить с нами спектакль по пьесе местного драматурга-кудесника «Софокл, сойди с ума». Там все ходили в тогах из простыней. И говорили высоким слогом. Мы с Гончаровым выполняли роль песенников-бардов, прямо в зрительном зале заполняли паузы между картинами песнями-зонгами. Местный драматург позволил себе сомнительную фразу в концовке спектакля, она натурально звучала так: «Я всё сказал! Я кончил!» Так прямо и было написано в пьесе. Эту фразу говорил персонаж, которого играл Васильев. На одной из последних репетиций Толик выдал индейское: «…Хау! Я всё сказал!...» Режиссёрша попросила его не импровизировать. И посоветовала, предчувствуя недоброе, изменить текст: «Давайте вы скажете тут не «я кончил», а «я закончил!» Очень тактичный Толик развёл руками, что означало, что одно слово нашей великой преподавательницы, и она будет просто купаться в толиковых заканчиваниях.
Мы не могли с Гончаровым терпеть, когда без разрешения классика меняют его текст! Подошли к Васильеву и попросили его этого не делать. Он согласился с нашими убедительными аргументами. На премьере он во время этой фразы смотрел прямо на нас. А когда произносил «Я кончил!», даже от переполнявшего его трепета перед текстом классика, немного на сантиметр присел ногами. Это было бесконечно смешно. Зрительный зал уже весь знал о проверке, мы не смогли не разболтать, и ждал этого момента. Дожидаясь, когда зал проржётся, наша педагог выразительно обернулась на нас с Гончаровым. Мы стояли с гитарами и твёрдо сжатыми губами, собранными в фигуру «куриная попа». Но из наших глаз на зрителей летели искры. С этого дня Толик Васильев стал нашим другом.
Во время выпускных экзаменов я каждую пятницу улетал на гастроли. Работал в Москве у Сан Саныча Калягина, того самого «Донна Роза», в группе со своим спектаклем театра «Барабан». В понедельник прямо с аэропорта ехал в институт. В пятницу улетал в Москву. Поэтому активного участия в спектакле принимать не мог.
– Посидишь за столом, четыре балла поставят, – успокоил меня Толик. – А, кстати, ты ведь на пианино играешь?
– Ну, да, – согласился я несколько неуверенно. Вдруг он мне какого-нибудь Баха или Моцарта попросит сбацать.
– Я тебе кивну, там будет пианино, ты сядешь, что-нибудь заголосишь, мы тебя вместе со стулом с Орловым вынесем. Там дальше сцены без гостей.
– Запросто! А что спеть?
– Разницы нет! Что-нибудь бравурное. Всё равно мы тебя почти сразу же унесём.
Всё же на одной репетиции я умудрился побывать и смекнул, что к чему. Спектакль был задуман в чём-то даже авангардно. Действие происходило в центре зала, зрители сидели вокруг по всему периметру. Одну свою однокурсницу я попросил быть моей «женой». Чтоб одёргивала меня и подкладывала салаты. Алкоголь на столе в бутылках был компотом, подкрашенной водичкой, соком. А вот всякие нарезки и салаты были не бутафорскими, а настоящими.
На премьере я сумел пронести за стол бутылку настоящего вина. Первые двадцать минут действия я на пустяки не разменивался. Пил, не дожидаясь тостов. И очень сосредоточенно жрал. Такие персонажи я в жизни встречал за праздничными ужинами. Поэтому не особенно придумывал. Я подчистил всё, что было героически накрыто. Очень актёрски безупречно просил передавать еду с дальних от меня районов стола. Актёры с текстами меня ненавидели. «Жена» пыталась одёргивать, но я был очень занят. Зрители толкали друг друга в бока и советовали присмотреться к моему персонажу. Лёгкий гул смешков слышал не только я. Васильев стал нервничать и смотреть на меня прокурорскими глазами.
Я добил бутылку вина и доел последнюю нарезку колбасы. Откинулся на сиденье стула и стал сыто дирижировать какой-то своей внутриутробной музыке. Наконец Толик мне кивнул, и я подсел к пианино. «Широка страна моя родная… – заголосил я. – Много в не-е-е – го-вне-говне-говне-е-е….»
Васильев и Орлов просто рванули ко мне со скоростью спринтеров и вынесли из зала под оглушительные аплодисменты зрителей.
Вообще-то так нельзя. Я, конечно, переборщил. Перетащил всё внимание на себя, а актёрам свои тексты пришлось выдавать в космос и недооценёнными. Толик так потом мне и сказал, правда, улыбаясь: «Тут мы старались, старались. Пришёл Кащеев, отхватил свой гром оваций и ушёл, всех обосрав».
«Все в «го-вне-говне-говне-говне-е-е…!» – уже спел он.
Я всё равно получил трояк. Единственный на курсе человек, работающий в это время профессиональным артистом и режиссёром. А поступал бетонщиком третьего разряда. И этот трояк был вторым в дипломе. Ещё так же плохо я сдал «Историю КПСС».
Неформально режиссёром был Толик Васильев. Взялся за это дело профессионально и ответственно. Так и должно было быть. Он ведь учился в нашем институте двадцать лет! Каждый год обучения прерывался годами академических отпусков. Его однокурсники и приятели у него уже преподавали! Так уже с нами и доковылял до диплома.
Когда он пришёл в группу, кажется, на третьем курсе, мы с Гончаровым решили его проверить на вшивость. Наш очень художественный руководитель курса решила поставить с нами спектакль по пьесе местного драматурга-кудесника «Софокл, сойди с ума». Там все ходили в тогах из простыней. И говорили высоким слогом. Мы с Гончаровым выполняли роль песенников-бардов, прямо в зрительном зале заполняли паузы между картинами песнями-зонгами. Местный драматург позволил себе сомнительную фразу в концовке спектакля, она натурально звучала так: «Я всё сказал! Я кончил!» Так прямо и было написано в пьесе. Эту фразу говорил персонаж, которого играл Васильев. На одной из последних репетиций Толик выдал индейское: «…Хау! Я всё сказал!...» Режиссёрша попросила его не импровизировать. И посоветовала, предчувствуя недоброе, изменить текст: «Давайте вы скажете тут не «я кончил», а «я закончил!» Очень тактичный Толик развёл руками, что означало, что одно слово нашей великой преподавательницы, и она будет просто купаться в толиковых заканчиваниях.
Мы не могли с Гончаровым терпеть, когда без разрешения классика меняют его текст! Подошли к Васильеву и попросили его этого не делать. Он согласился с нашими убедительными аргументами. На премьере он во время этой фразы смотрел прямо на нас. А когда произносил «Я кончил!», даже от переполнявшего его трепета перед текстом классика, немного на сантиметр присел ногами. Это было бесконечно смешно. Зрительный зал уже весь знал о проверке, мы не смогли не разболтать, и ждал этого момента. Дожидаясь, когда зал проржётся, наша педагог выразительно обернулась на нас с Гончаровым. Мы стояли с гитарами и твёрдо сжатыми губами, собранными в фигуру «куриная попа». Но из наших глаз на зрителей летели искры. С этого дня Толик Васильев стал нашим другом.
Во время выпускных экзаменов я каждую пятницу улетал на гастроли. Работал в Москве у Сан Саныча Калягина, того самого «Донна Роза», в группе со своим спектаклем театра «Барабан». В понедельник прямо с аэропорта ехал в институт. В пятницу улетал в Москву. Поэтому активного участия в спектакле принимать не мог.
– Посидишь за столом, четыре балла поставят, – успокоил меня Толик. – А, кстати, ты ведь на пианино играешь?
– Ну, да, – согласился я несколько неуверенно. Вдруг он мне какого-нибудь Баха или Моцарта попросит сбацать.
– Я тебе кивну, там будет пианино, ты сядешь, что-нибудь заголосишь, мы тебя вместе со стулом с Орловым вынесем. Там дальше сцены без гостей.
– Запросто! А что спеть?
– Разницы нет! Что-нибудь бравурное. Всё равно мы тебя почти сразу же унесём.
Всё же на одной репетиции я умудрился побывать и смекнул, что к чему. Спектакль был задуман в чём-то даже авангардно. Действие происходило в центре зала, зрители сидели вокруг по всему периметру. Одну свою однокурсницу я попросил быть моей «женой». Чтоб одёргивала меня и подкладывала салаты. Алкоголь на столе в бутылках был компотом, подкрашенной водичкой, соком. А вот всякие нарезки и салаты были не бутафорскими, а настоящими.
На премьере я сумел пронести за стол бутылку настоящего вина. Первые двадцать минут действия я на пустяки не разменивался. Пил, не дожидаясь тостов. И очень сосредоточенно жрал. Такие персонажи я в жизни встречал за праздничными ужинами. Поэтому не особенно придумывал. Я подчистил всё, что было героически накрыто. Очень актёрски безупречно просил передавать еду с дальних от меня районов стола. Актёры с текстами меня ненавидели. «Жена» пыталась одёргивать, но я был очень занят. Зрители толкали друг друга в бока и советовали присмотреться к моему персонажу. Лёгкий гул смешков слышал не только я. Васильев стал нервничать и смотреть на меня прокурорскими глазами.
Я добил бутылку вина и доел последнюю нарезку колбасы. Откинулся на сиденье стула и стал сыто дирижировать какой-то своей внутриутробной музыке. Наконец Толик мне кивнул, и я подсел к пианино. «Широка страна моя родная… – заголосил я. – Много в не-е-е – го-вне-говне-говне-е-е….»
Васильев и Орлов просто рванули ко мне со скоростью спринтеров и вынесли из зала под оглушительные аплодисменты зрителей.
Вообще-то так нельзя. Я, конечно, переборщил. Перетащил всё внимание на себя, а актёрам свои тексты пришлось выдавать в космос и недооценёнными. Толик так потом мне и сказал, правда, улыбаясь: «Тут мы старались, старались. Пришёл Кащеев, отхватил свой гром оваций и ушёл, всех обосрав».
«Все в «го-вне-говне-говне-говне-е-е…!» – уже спел он.
Я всё равно получил трояк. Единственный на курсе человек, работающий в это время профессиональным артистом и режиссёром. А поступал бетонщиком третьего разряда. И этот трояк был вторым в дипломе. Ещё так же плохо я сдал «Историю КПСС».
Сергей КАЩЕЕВ
~
«Вместа спасиба»
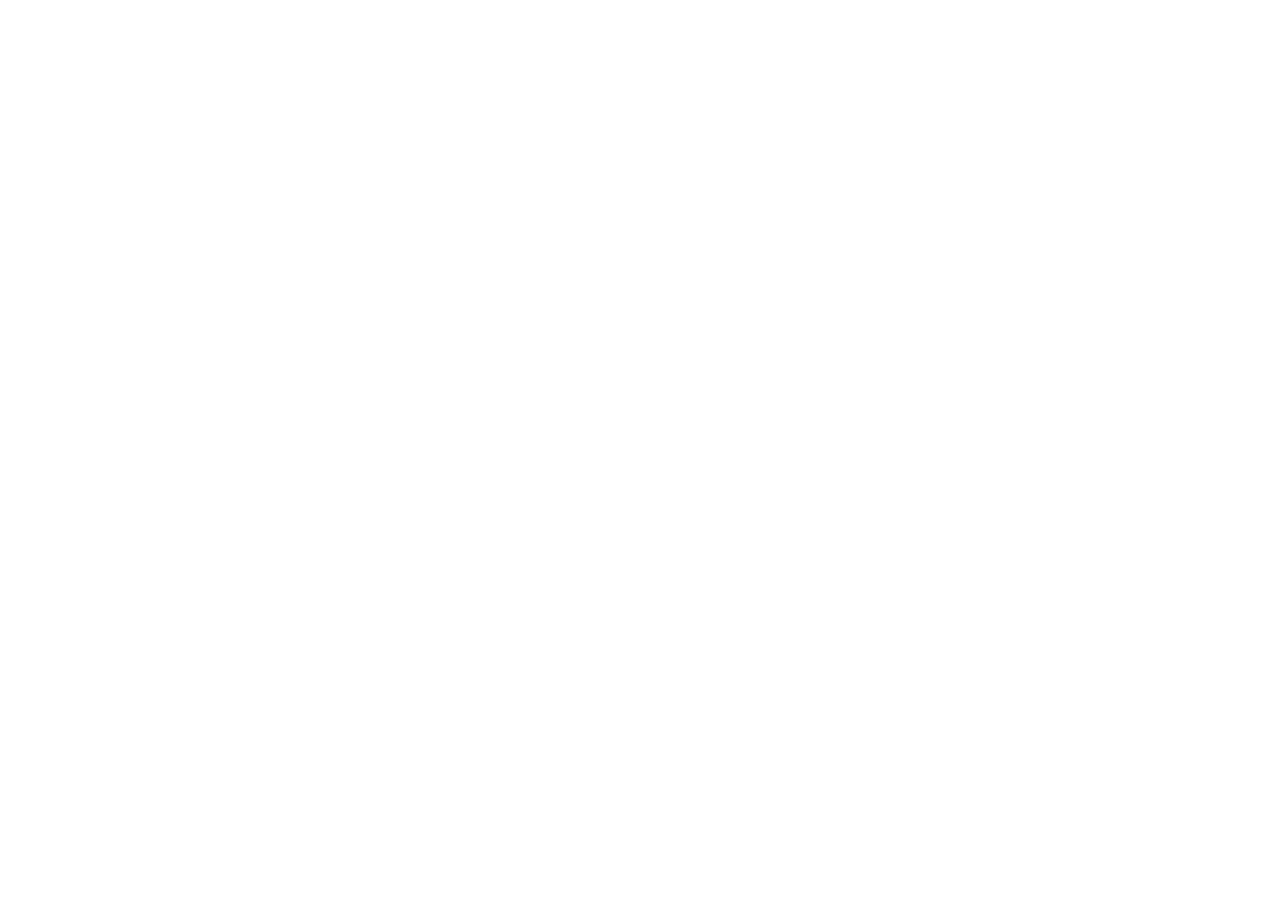
Сергей
Кащеев
Кащеев
Я так никогда и не узнаю, что такое «нитробензол» только потому, что наша «химичка» имела обыкновение курить во время урока, выходя, правда, для этого в «лаборантскую». Как воспитанник семьи с очень суровыми традициями, я воспринимал это как постыдную слабость. После того, как у меня на одном из уроков взорвалась какая-то пробирка, ненависть наша друг к другу стала обоюдной. Во мне умер Менделеев.
Английский я возненавидел только потому, что на уроках мне было невыносимо скучно. Наша англичанка в молодости побывала в Англии и остальные тридцать лет так тосковала по не своей родине, что глядеть на её грустное лицо, не отрывающее глаз от унылого пейзажа за окном, предложенного дымным уральским городом, – было невыносимо. С тех пор я ни разу не пытался прочитать Шекспира в подлиннике.
Алгебру я невзлюбил сразу же, за дурацкую привычку нашей «математички» проверять каждый день выполнение домашних заданий. Моё абсолютное гуманитарное непонимание необходимости использовать в жизни знания формулы «квадратов косинуса гипотенузы тангенса» убило во мне Лобачевского. Появление же калькуляторов вызвало у меня, уже взрослого человека, запоздавшее злорадство.
«Биологиня», человек глубокой урбанизации, вызывала во мне чувство глубочайшего сочувствия. Из чувства протеста я не хотел знать число тычинок в «семяпочечке с листочками». Не только потому, что к тому времени облазил вдоль и поперёк все уральские горы, а потому, что меня обучал биологии человек, который в своей жизни, кроме учебника и чахлых цветов на школьной клумбе, видел только кактус на окне, от остатков чайной заварки, которой она его регулярно поливала, отбросил последние иголки.
Я терпеть не мог «Военное дело», потому что военрук заставлял подстригаться. Физику – за привычки «физички» бесконечно долго и глубокомысленно молчать, дожидаясь тишины в классе. Литературу – за особую требовательность ко мне молодой учительницы. Физкультуру – за то, что на этом уроке невозможно было читать литературу.
Как я люблю всех вас, мои тогдашние мучители! Как я скучаю о ваших простительных человеческих недостатках, которые учили нас, быть может, самому главному в жизни – толерантности. Ведь вы уже умели терпеть меня! Как я благодарен вам за то, что не стал тем, кем и не должен был бы стать. И это предопределение – тоже часть задачи, которую выполняет человек, название профессии которого уже само по себе звание – Учитель.
Английский я возненавидел только потому, что на уроках мне было невыносимо скучно. Наша англичанка в молодости побывала в Англии и остальные тридцать лет так тосковала по не своей родине, что глядеть на её грустное лицо, не отрывающее глаз от унылого пейзажа за окном, предложенного дымным уральским городом, – было невыносимо. С тех пор я ни разу не пытался прочитать Шекспира в подлиннике.
Алгебру я невзлюбил сразу же, за дурацкую привычку нашей «математички» проверять каждый день выполнение домашних заданий. Моё абсолютное гуманитарное непонимание необходимости использовать в жизни знания формулы «квадратов косинуса гипотенузы тангенса» убило во мне Лобачевского. Появление же калькуляторов вызвало у меня, уже взрослого человека, запоздавшее злорадство.
«Биологиня», человек глубокой урбанизации, вызывала во мне чувство глубочайшего сочувствия. Из чувства протеста я не хотел знать число тычинок в «семяпочечке с листочками». Не только потому, что к тому времени облазил вдоль и поперёк все уральские горы, а потому, что меня обучал биологии человек, который в своей жизни, кроме учебника и чахлых цветов на школьной клумбе, видел только кактус на окне, от остатков чайной заварки, которой она его регулярно поливала, отбросил последние иголки.
Я терпеть не мог «Военное дело», потому что военрук заставлял подстригаться. Физику – за привычки «физички» бесконечно долго и глубокомысленно молчать, дожидаясь тишины в классе. Литературу – за особую требовательность ко мне молодой учительницы. Физкультуру – за то, что на этом уроке невозможно было читать литературу.
Как я люблю всех вас, мои тогдашние мучители! Как я скучаю о ваших простительных человеческих недостатках, которые учили нас, быть может, самому главному в жизни – толерантности. Ведь вы уже умели терпеть меня! Как я благодарен вам за то, что не стал тем, кем и не должен был бы стать. И это предопределение – тоже часть задачи, которую выполняет человек, название профессии которого уже само по себе звание – Учитель.
Сергей КАЩЕЕВ
~
«Витька»
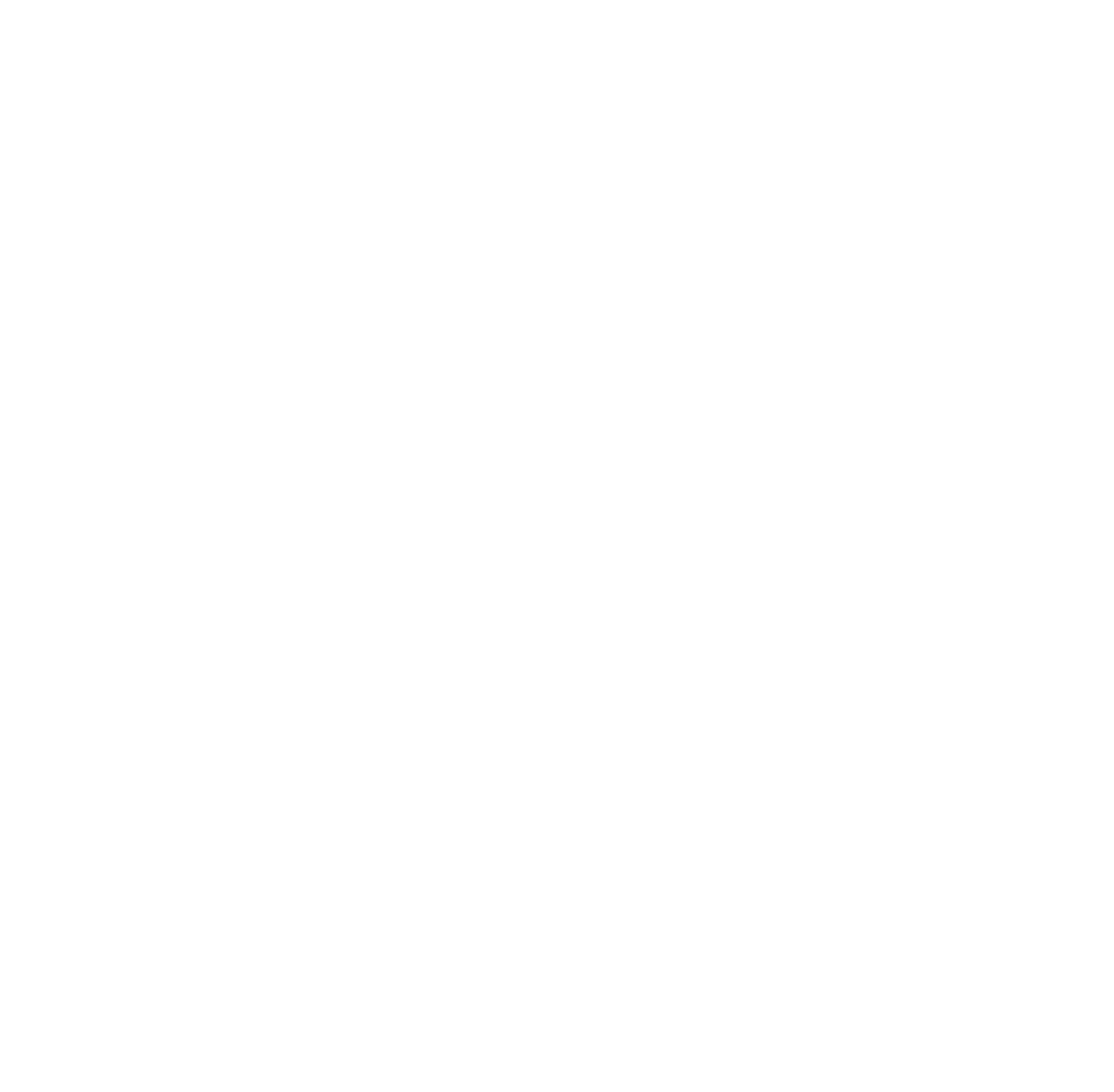
Алексей
Колесников
Колесников
Колесников Алексей Иванович проживает в настоящее время в станице Старотитаровской Темрюкского района Краснодарского края. «Желание писать возникло в армии в 1971 году. Писал небольшие статьи, очерки (рассказы для себя в стол). Вначале писал ради интереса, потом по привычке, а сейчас писать стало для меня необходимостью», – так определяет свой творческий путь автор. Рассказы Алексея Колесникова в разное время были опубликованы в газетах: «Апшеронский рабочий», «Тамань», «Полуостров» и др.
С Витькой познакомился я на рыбалке. Утро выдалось тихое и тёплое. Приехал я на своём стареньком «Восходе». С трудом пробрался через ветки лозняка и камыша, вышел к воде Казачьего Ерика. Проставил снасти, закурил и стал ждать. Надо мной с оглушительным стрёкотом пролетала сорока. В ту же минуту на валу услышал скрип старенького давно несмазанного велосипеда. Скрип невдалеке от меня прекратился. В это время леска на дальнем спиннинге резко дёрнулась и провисла до самой воды. Я подошёл, подмотал леску на катушку. Рывок повторился. Я сделал подсечку, начал выбирать леску. Через две минуты у моих ног лежал сом около трёх килограммов.
– Хороший сом.
Я повернулся на голос. Передо мной стоял мальчишка лет одиннадцати и улыбался. На нём были синие обрезанные брюки и жёлтая без рукавов рубашка с накладными карманами. В руке малыш держал кирзовую сумку, которая была старше его лет на 15–20 и телескопическую удочку.
– Конечно, хороший! – сказал я, – давай располагайся по соседству.
Мальчуган шмыгнул носом и пошёл выбирать себе место. Ниже меня по течению, на упавшей в воду вербе, я увидел жёлтое пятно. Мы занимались каждый своим делом. К обеду клёв прекратился, у меня в садке было около семи–восьми килограммов рыбы. Решил посмотреть, как идут дела у моего юного соседа. Подошёл к вербе, вижу: сидит мой сосед держит в руках леску и плачет.
– Что случилось?
– Да вот, дяденька, щука крючок откусила, а запасных у меня нет.
– Ну, брат, это ерунда. Не стоит плакать. Покажи свой улов, а крючок я тебе дам. Мальчик вытащил из воды садок на одну четверть наполненный разной мелочью. Рыба прыгала, сверкала на солнце.
– Бери удочку, пойдём, я тебе крючок дам.
Я повернулся и пошёл к своим снастям, а минут через пять пришёл мальчишка. Глянул я на него поближе и рассмеялся. Лицо и руки грязные, брюки на коленях мокрые.
– Вот что, парень, умывайся, и мы с тобой перекусим.
Я присел, развязал свой рюкзак, достал коробочку с крючками и пакет с продуктами. Еду аккуратно выложил на рюкзак. Мальчик привёл себя в порядок и подошёл ко мне.
– Садись, не стесняйся.
Я разрезал помидор, посолил его, начал чистить картошку. Мальчишка взял помидор, надкусил его и сунул в спичечный коробок, где была соль. Поднял руку и широко открытыми глазами уставился на него. Коробок до краёв был наполнен помидорной мякотью. Я рассмеялся и мальчишка тоже. Содержимое коробочки я выложил на пакет, и дальнейший обед продолжался без конфузов.
– Звать тебя как?
– Витька, а по фамилии Пелипнев.
– А живёшь ты где?
– Да тут недалеко, станичный я.
Мальчишка ел и разговаривал со мной. Вымыл я руки и закурил, а Витька ел и ел, в ход шло всё, что было: яйца, сало, колбаса, помидоры, лук. Кусал он большими кусками, быстро жевал и глотал. О многом говорил мне вид мальчика: худые и острые лопатки, старые поношенные брюки, мужская рубаха без рукавов, чёрные галоши большого размера на босую ногу.
– Вить, а семья у вас большая?
– Нет, дяденька, я, дед и бабушка.
– А мать, отец у тебя есть?
– Да как сказать? Есть, но с нами не живут.
– А почему?
Витька встал, вытер руки о траву и ещё раз обтёр о штаны. Присел на примятую траву и камыш, заговорил тихо, не спеша, как взрослый человек. Он обдумывал каждое предложение, повторяя слово «дяденька». Я слушал. Курил сигарету за сигаретой и слушал. Я не мог отвести глаз и на секунду от этого мальчика. До глубины души меня потрясло всё услышанное мной.
– Сначала, дяденька, мы жили хорошо. Папа работал трактористом, мама телятницей на ферме. А потом всё чаще и чаще мама стала приходить домой и кричать на папу, что он не мужчина, раз не может денег принести домой, в семью. Папа хмурился и больше молчал. Только иногда он что-то пробовал маме объяснить, мама хлопала дверью и уходила к бабушке ночевать. Папа готовил ужин, мы ели и ложились спать. Утром я уходил к папиным родителям, к бабушке и дедушке. Впоследствии мать домой не приходила по несколько дней, а если и приходила, то пьяная. А один раз пришла, собрала какие-то вещи и ушла, а я всё видел, дома был. Вечером, когда папа пришёл, я ему всё рассказал. Он собрался и ушёл. Я сидел дома и долго ждал. Пришёл отец и привёл за руку мать, она была пьяная, кричала и ругалась. На папе рубашка была порвана и в крови, он её снял и пошёл обмываться. А мамка прошла мимо меня в спальню, даже не глянула, там и закрылась. Когда папа вернулся, я всё понял, он подрался с кем-то. Папа подошёл ко мне, взял на руки.
– Пойдём, сынок, спать. Завтра у меня выходной, сходим на рыбалку. Папа говорил, а голос у него дрожал. Когда я, дяденька, заснул, раздался сильный стук в двери, кто-то сильно кричал, звал папу и требовал открыть двери. Папа надел брюки и пошёл. Что там произошло, я не знаю. Я сидел на кровати, закутавшись в одеяло, не понимая, что происходит. А за стеной бегали, кричали. А когда, дяденька, под навесом разбили лампочку, мне стало страшно, и я заплакал. Шум неожиданно прекратился, стало тихо-тихо. В комнату зашёл папа и зажёг свет, взял меня и так в одеяле и понёс к деду. По дороге у папы на руках я и заснул. Утром бабушка меня накормила, и я пошел играть. На улице меня обступили и взрослые, и дети из ближайших домов. И тут только я узнал, что же ночью произошло.
Оказывается, мамка в спальне открыла окно и убежала к «своим алкашам», как говорит папа. А уже поздно ночью мать их привела бить папу. Вот тогда-то папа кого-то ударил, что тот упал и головой ударился о «чистилку», знаете, чтоб ноги от грязи обчищать, делают из железа.
Я кивнул головой и продолжал внимательно слушать Витьку.
– Так вот, дяденька, папа меня отнёс к деду, а сам пошёл в милицию. И потом я его видел только на суде. Мамка на суд не пришла. Там были только дед, бабушка, я и ещё несколько человек с папкиной работы. А уже после, мамка всё из дома вывезла: что продала, что на вино променяла. Дедушка дом замкнул почти пустой. И после этого мамка куда-то пропала, ко мне не приходила и ничего не приносила. К школе мне всё бабушка с дедушкой купили. Учительница у нас хорошая, и я учусь хорошо. Папа пишет, чтобы я учился и слушал бабушку. Я пойду в четвёртый класс. «Папка скоро домой придёт», – так говорит дедушка.
– Витя, а мать ты так и не видел за эти почти четыре года?
– Почему не видел? Видел. Она нашла себе «хахаля», так говорит бабушка. Он городской был, с машиной. Они часто пили, почти каждый день собирались у тётки Верки, в хате. Напьются и ездят, мотаются на большой скорости то на море, то ещё куда. Вот так и получилось: перевернулись и разбились. Тётка Верка и дядька насмерть, а мамке спину и ноги поломало. Долго в больнице лежала, потом её скорая домой привезла. Ходить не может, в «каталке» сидит. Мы на экскурсию всем классом ходили, шли мимо, я её видел. Она меня узнала, как закричит: «Витя! Сынок! Или сюда! Я хочу на тебя посмотреть». Но я, дяденька, не пошёл. Какая она мне мамка? Если хотела, чтобы отца моего убили! Витька замолк на несколько секунд.
– И никогда я к ней не пойду, мне с бабушкой и дедушкой хорошо. Они пенсию получают хоть и с задержкой. Папа вот-вот придёт и найдёт мне хорошую маму, такую ласковую и добрую, как наша учительница. И никогда, дяденька, в нашем доме больше не будет ни вина, ни скандала.
Я привязал крючок к удочке. Витька молча смотрел на жирную гусеницу, думая о чём-то своём.
– Вить, а Вить? Давай мою рыбу с тобой по-братски поделим, придёшь домой угостишь своих стариков, а то мне этого одному много.
Я вытащил свой садок, оставил себе трёх карасей, остальная рыба перекочевала к Витьке. С усилием, двумя руками мальчик поднял садок, потряс им и засмеялся. Глаза Витки светились счастьем, он не знал, что сказать.
– Спасибо, дяденька! Через силу выдавил из себя и чуть не заплакал.
– Ну! Брат, не надо. Давай я тебе помогу привязать рыбу на багажник.
Витьку я проводил до дороги, расстались мы друзьями. Я стоял на дороге и долго смотрел на худенькую фигурку, медленно удалявшуюся на скрипучем велосипеде от меня. Я смотрел, а по моим щекам текли слёзы. Сколько же таких «Витек» сейчас живёт в тяжелейших условиях, недоедают. Лишенные не материнской, так отцовской ласки, а то и обоих родителей. Я смотрел вслед, а по моим щекам катились горячие слёзы, Витькины слёзы.
С Витькой познакомился я на рыбалке. Утро выдалось тихое и тёплое. Приехал я на своём стареньком «Восходе». С трудом пробрался через ветки лозняка и камыша, вышел к воде Казачьего Ерика. Проставил снасти, закурил и стал ждать. Надо мной с оглушительным стрёкотом пролетала сорока. В ту же минуту на валу услышал скрип старенького давно несмазанного велосипеда. Скрип невдалеке от меня прекратился. В это время леска на дальнем спиннинге резко дёрнулась и провисла до самой воды. Я подошёл, подмотал леску на катушку. Рывок повторился. Я сделал подсечку, начал выбирать леску. Через две минуты у моих ног лежал сом около трёх килограммов.
– Хороший сом.
Я повернулся на голос. Передо мной стоял мальчишка лет одиннадцати и улыбался. На нём были синие обрезанные брюки и жёлтая без рукавов рубашка с накладными карманами. В руке малыш держал кирзовую сумку, которая была старше его лет на 15–20 и телескопическую удочку.
– Конечно, хороший! – сказал я, – давай располагайся по соседству.
Мальчуган шмыгнул носом и пошёл выбирать себе место. Ниже меня по течению, на упавшей в воду вербе, я увидел жёлтое пятно. Мы занимались каждый своим делом. К обеду клёв прекратился, у меня в садке было около семи–восьми килограммов рыбы. Решил посмотреть, как идут дела у моего юного соседа. Подошёл к вербе, вижу: сидит мой сосед держит в руках леску и плачет.
– Что случилось?
– Да вот, дяденька, щука крючок откусила, а запасных у меня нет.
– Ну, брат, это ерунда. Не стоит плакать. Покажи свой улов, а крючок я тебе дам. Мальчик вытащил из воды садок на одну четверть наполненный разной мелочью. Рыба прыгала, сверкала на солнце.
– Бери удочку, пойдём, я тебе крючок дам.
Я повернулся и пошёл к своим снастям, а минут через пять пришёл мальчишка. Глянул я на него поближе и рассмеялся. Лицо и руки грязные, брюки на коленях мокрые.
– Вот что, парень, умывайся, и мы с тобой перекусим.
Я присел, развязал свой рюкзак, достал коробочку с крючками и пакет с продуктами. Еду аккуратно выложил на рюкзак. Мальчик привёл себя в порядок и подошёл ко мне.
– Садись, не стесняйся.
Я разрезал помидор, посолил его, начал чистить картошку. Мальчишка взял помидор, надкусил его и сунул в спичечный коробок, где была соль. Поднял руку и широко открытыми глазами уставился на него. Коробок до краёв был наполнен помидорной мякотью. Я рассмеялся и мальчишка тоже. Содержимое коробочки я выложил на пакет, и дальнейший обед продолжался без конфузов.
– Звать тебя как?
– Витька, а по фамилии Пелипнев.
– А живёшь ты где?
– Да тут недалеко, станичный я.
Мальчишка ел и разговаривал со мной. Вымыл я руки и закурил, а Витька ел и ел, в ход шло всё, что было: яйца, сало, колбаса, помидоры, лук. Кусал он большими кусками, быстро жевал и глотал. О многом говорил мне вид мальчика: худые и острые лопатки, старые поношенные брюки, мужская рубаха без рукавов, чёрные галоши большого размера на босую ногу.
– Вить, а семья у вас большая?
– Нет, дяденька, я, дед и бабушка.
– А мать, отец у тебя есть?
– Да как сказать? Есть, но с нами не живут.
– А почему?
Витька встал, вытер руки о траву и ещё раз обтёр о штаны. Присел на примятую траву и камыш, заговорил тихо, не спеша, как взрослый человек. Он обдумывал каждое предложение, повторяя слово «дяденька». Я слушал. Курил сигарету за сигаретой и слушал. Я не мог отвести глаз и на секунду от этого мальчика. До глубины души меня потрясло всё услышанное мной.
– Сначала, дяденька, мы жили хорошо. Папа работал трактористом, мама телятницей на ферме. А потом всё чаще и чаще мама стала приходить домой и кричать на папу, что он не мужчина, раз не может денег принести домой, в семью. Папа хмурился и больше молчал. Только иногда он что-то пробовал маме объяснить, мама хлопала дверью и уходила к бабушке ночевать. Папа готовил ужин, мы ели и ложились спать. Утром я уходил к папиным родителям, к бабушке и дедушке. Впоследствии мать домой не приходила по несколько дней, а если и приходила, то пьяная. А один раз пришла, собрала какие-то вещи и ушла, а я всё видел, дома был. Вечером, когда папа пришёл, я ему всё рассказал. Он собрался и ушёл. Я сидел дома и долго ждал. Пришёл отец и привёл за руку мать, она была пьяная, кричала и ругалась. На папе рубашка была порвана и в крови, он её снял и пошёл обмываться. А мамка прошла мимо меня в спальню, даже не глянула, там и закрылась. Когда папа вернулся, я всё понял, он подрался с кем-то. Папа подошёл ко мне, взял на руки.
– Пойдём, сынок, спать. Завтра у меня выходной, сходим на рыбалку. Папа говорил, а голос у него дрожал. Когда я, дяденька, заснул, раздался сильный стук в двери, кто-то сильно кричал, звал папу и требовал открыть двери. Папа надел брюки и пошёл. Что там произошло, я не знаю. Я сидел на кровати, закутавшись в одеяло, не понимая, что происходит. А за стеной бегали, кричали. А когда, дяденька, под навесом разбили лампочку, мне стало страшно, и я заплакал. Шум неожиданно прекратился, стало тихо-тихо. В комнату зашёл папа и зажёг свет, взял меня и так в одеяле и понёс к деду. По дороге у папы на руках я и заснул. Утром бабушка меня накормила, и я пошел играть. На улице меня обступили и взрослые, и дети из ближайших домов. И тут только я узнал, что же ночью произошло.
Оказывается, мамка в спальне открыла окно и убежала к «своим алкашам», как говорит папа. А уже поздно ночью мать их привела бить папу. Вот тогда-то папа кого-то ударил, что тот упал и головой ударился о «чистилку», знаете, чтоб ноги от грязи обчищать, делают из железа.
Я кивнул головой и продолжал внимательно слушать Витьку.
– Так вот, дяденька, папа меня отнёс к деду, а сам пошёл в милицию. И потом я его видел только на суде. Мамка на суд не пришла. Там были только дед, бабушка, я и ещё несколько человек с папкиной работы. А уже после, мамка всё из дома вывезла: что продала, что на вино променяла. Дедушка дом замкнул почти пустой. И после этого мамка куда-то пропала, ко мне не приходила и ничего не приносила. К школе мне всё бабушка с дедушкой купили. Учительница у нас хорошая, и я учусь хорошо. Папа пишет, чтобы я учился и слушал бабушку. Я пойду в четвёртый класс. «Папка скоро домой придёт», – так говорит дедушка.
– Витя, а мать ты так и не видел за эти почти четыре года?
– Почему не видел? Видел. Она нашла себе «хахаля», так говорит бабушка. Он городской был, с машиной. Они часто пили, почти каждый день собирались у тётки Верки, в хате. Напьются и ездят, мотаются на большой скорости то на море, то ещё куда. Вот так и получилось: перевернулись и разбились. Тётка Верка и дядька насмерть, а мамке спину и ноги поломало. Долго в больнице лежала, потом её скорая домой привезла. Ходить не может, в «каталке» сидит. Мы на экскурсию всем классом ходили, шли мимо, я её видел. Она меня узнала, как закричит: «Витя! Сынок! Или сюда! Я хочу на тебя посмотреть». Но я, дяденька, не пошёл. Какая она мне мамка? Если хотела, чтобы отца моего убили! Витька замолк на несколько секунд.
– И никогда я к ней не пойду, мне с бабушкой и дедушкой хорошо. Они пенсию получают хоть и с задержкой. Папа вот-вот придёт и найдёт мне хорошую маму, такую ласковую и добрую, как наша учительница. И никогда, дяденька, в нашем доме больше не будет ни вина, ни скандала.
Я привязал крючок к удочке. Витька молча смотрел на жирную гусеницу, думая о чём-то своём.
– Вить, а Вить? Давай мою рыбу с тобой по-братски поделим, придёшь домой угостишь своих стариков, а то мне этого одному много.
Я вытащил свой садок, оставил себе трёх карасей, остальная рыба перекочевала к Витьке. С усилием, двумя руками мальчик поднял садок, потряс им и засмеялся. Глаза Витки светились счастьем, он не знал, что сказать.
– Спасибо, дяденька! Через силу выдавил из себя и чуть не заплакал.
– Ну! Брат, не надо. Давай я тебе помогу привязать рыбу на багажник.
Витьку я проводил до дороги, расстались мы друзьями. Я стоял на дороге и долго смотрел на худенькую фигурку, медленно удалявшуюся на скрипучем велосипеде от меня. Я смотрел, а по моим щекам текли слёзы. Сколько же таких «Витек» сейчас живёт в тяжелейших условиях, недоедают. Лишенные не материнской, так отцовской ласки, а то и обоих родителей. Я смотрел вслед, а по моим щекам катились горячие слёзы, Витькины слёзы.
Алексей КОЛЕСНИКОВ
~
Материнство
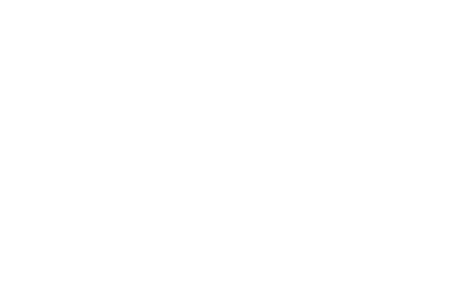
Мальчик родился ночью, так что только днём я заметил отсутствие Марты и полез в сарай. Щенят было штук шесть. Через неделю остался один. Уже повзрослев, я понял, что дед пятерых утопил, а не «раздал в деревне», как он мне тогда сказал. Кличка «Мальчик» появилось непринуждённо. Как констатация факта. Марта с исчезновением остальных детей как-то облегчённо согласилась. Она уже была стара. И все остатки материнской любви отдала своему щенку. Нужно было видеть, как она улыбалась и блаженно щурилась сидя на солнце, когда Мальчик ползал по ней, цепляясь за её уши.
Однажды пришёл «отец». Это можно было легко догадаться по окрасу. Марта зарычала и оскалилась. Кобель с досадой посмотрел на щенка и убежал по своим кобелиным делам. Дед работал лесником, и наш кордон находился километрах в двадцати от ближайшей деревни. Так что «отца» Мальчика бабушка, посмотрев ему вслед, наградила званием «мастер высшего кобеляжа».
У Марты очень редко были праздники. Куриц бабушка резала редко, а другой живности, кроме лошади, у нас не было. Так что Марта недоедала. Да и редкие куриные косточки она подсовывала своему малышу с выражением на морде, обозначающим отвращение к деревенской пище после регулярных обедов в лучших ресторанах Европы. Но как-то я увидел Мальчика в обнимку с мозговой костью, размером явно от крупного рогатого скота. Потом подобные кости стали попадаться регулярно. Разгадка скоро нашлась. Поехав как-то раз на лошади в деревню на почту, я встретил на дороге бегущую навстречу Марту с костью в пасти. Мы потом проследили. Оказывается, она почти каждую ночь бегала за двадцать километров на помойку возле столовой турбазы, недалеко от деревни. Судя по иногда появляющимся у неё ранам, на помойке ей ещё и приходилось сражаться за кости с местными собаками.
Я стал все дни проводить на рыбалке, так как Марта ела варёную рыбу. Мальчик рос и радовался жизни. Все дни играл. Марта улыбалась, но худела. Я уехал в город в конце августа. Мне нужно было идти в первый класс.
А в городе я наконец-то стал жить с родителями. Кончились их многолетние командировки. В отношении моей мамы ко мне я узнавал отношение Марты и Мальчика.
Живи, пожалуйста, долго, мама…
Однажды пришёл «отец». Это можно было легко догадаться по окрасу. Марта зарычала и оскалилась. Кобель с досадой посмотрел на щенка и убежал по своим кобелиным делам. Дед работал лесником, и наш кордон находился километрах в двадцати от ближайшей деревни. Так что «отца» Мальчика бабушка, посмотрев ему вслед, наградила званием «мастер высшего кобеляжа».
У Марты очень редко были праздники. Куриц бабушка резала редко, а другой живности, кроме лошади, у нас не было. Так что Марта недоедала. Да и редкие куриные косточки она подсовывала своему малышу с выражением на морде, обозначающим отвращение к деревенской пище после регулярных обедов в лучших ресторанах Европы. Но как-то я увидел Мальчика в обнимку с мозговой костью, размером явно от крупного рогатого скота. Потом подобные кости стали попадаться регулярно. Разгадка скоро нашлась. Поехав как-то раз на лошади в деревню на почту, я встретил на дороге бегущую навстречу Марту с костью в пасти. Мы потом проследили. Оказывается, она почти каждую ночь бегала за двадцать километров на помойку возле столовой турбазы, недалеко от деревни. Судя по иногда появляющимся у неё ранам, на помойке ей ещё и приходилось сражаться за кости с местными собаками.
Я стал все дни проводить на рыбалке, так как Марта ела варёную рыбу. Мальчик рос и радовался жизни. Все дни играл. Марта улыбалась, но худела. Я уехал в город в конце августа. Мне нужно было идти в первый класс.
А в городе я наконец-то стал жить с родителями. Кончились их многолетние командировки. В отношении моей мамы ко мне я узнавал отношение Марты и Мальчика.
Живи, пожалуйста, долго, мама…
Сергей КАЩЕЕВ
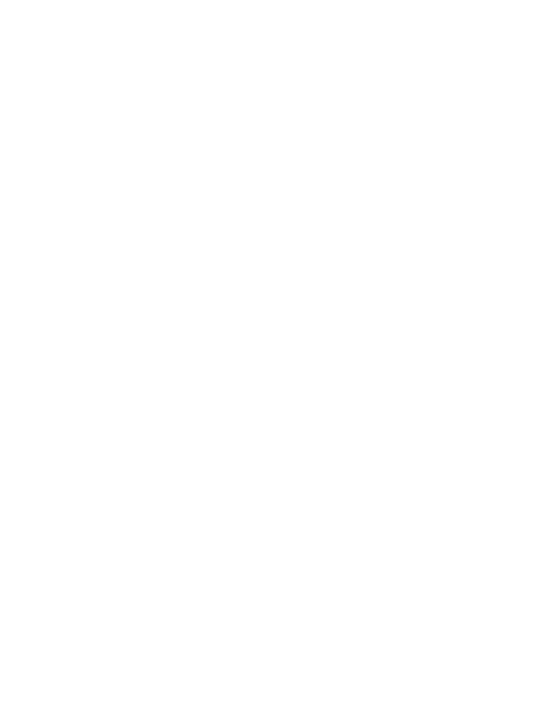
~
Сага о дружбе
О моём друге – генерале Галустьяне
Оскиане Аршаковиче
Оскиане Аршаковиче
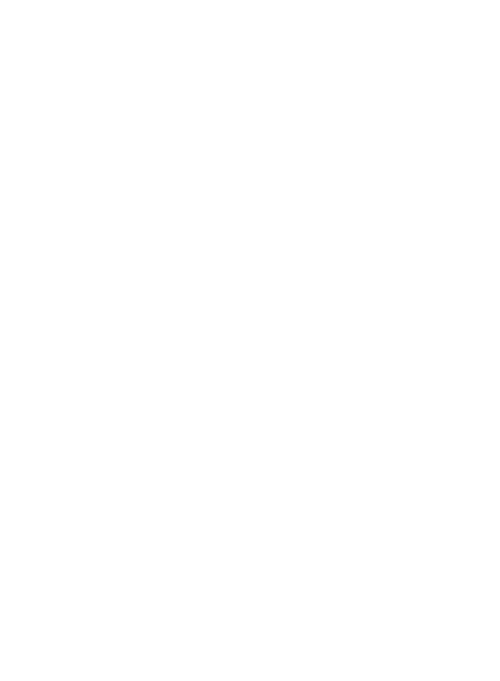
Все мы, дети той поры, опалены пламенем войны. Это обстоятельство самым непосредственным образом сказалось на формировании нашего характера, взаимоотношений и особой ответственности за свои поступки.
Росли мы в обстановке острой нужды и выживали исключительно благодаря суровому опыту жизни и осознанному коллективизму. Наша благодатная местность была покрыта множеством небольших городков, посёлков, станиц и хуторов. Их население было связано либо родственными, либо крепкими куначескими отношениями, и все постоянно находились в контакте. Для нас, детей, это обстоятельство было особенно благоприятно и всегда гарантировало самое горячее участие родни в наших делах. Мы знали почти всех родственников друг друга, где бы они ни жили: в предгорьях, в горах или даже на берегу моря. Например, у моего друга Виктора Никитенко бабушка жила в станице Самурской, в дюжине километров от нашего городка. Это не мешало ему с ранней весны до поздней осени навещать её после школы и к восьми утра следующего дня как ни в чём не бывало успевать к началу занятий. Походы в гости к бабушке порой сопрягались с серьёзными испытаниями. Самыми обычными из них были встречи с волками. Привыкшие за годы войны к дармовой добыче в виде падали, эти звери совсем не боялись людей, а порой даже охотились на них. Однажды в начале марта, как раз в пору волчьей свадьбы, Виктор привычно направился в гости. Прошёл он уже большую часть пути, как вдруг на открытом пространстве лесосеки в полукилометре от себя увидел волчью кичку, не менее десятка особей… Спасение было только в ногах, и он налёг… Потом рассказывал, что ощущал удары своих пяток по собственному затылку… Мне похожее испытание довелось пережить в двенадцать лет, когда на мою долю выпало перегнать нашу корову через горы в Сочи для продажи на мясо. Путь не превышал восьмидесяти километров и был рассчитан максимум на неделю. Однако в пути наш караван из тридцати голов животных и трёх погонщиков столкнулся с невероятными трудностями в виде обложного дождя и непросыхающей одежды. Нашим главным был местный житель, заядлый охотник и знаток всех потайных партизанских троп Рубен Петрович Хартьян. Но в условиях проливных дождей все водные преграды, даже ручьи и речушки, стали абсолютно непреодолимы и даже смертельно опасны как для животных, так и для людей. И, потеряв при попытке переправы одного годовалого бычка, мы отказались от дальнейших попыток испытывать судьбу. И вот тут-то и выручила солидарность местных жителей, которые помогли пристроить измученных животных и приютили выбившихся из сил людей.
В ту далёкую пору мы, школьники, находились в состоянии постоянной подготовки к нормам БГТО («Будь готов к труду и обороне»). Это не было формальностью. Наша физическая подготовка на самом деле отвечала поставленной задаче. Это являлось жизненной нормой и очень помогало нам в последующей жизни, начиная с ранней юности, когда в восьмом классе мы проходили приписку по линии военкомата. В то время этот этап жизни молодого человека считался жизнеутверждающим, мы проходили аттестацию на максимальную пригодность Родине. С этого момента мы постоянно находились в поле зрения военных властей: успеваемость, дисциплина, поведение, коммуникабельность, отношение к воинской службе в целом и предпочтение рода войск в частности. До самого призыва шла эта работа с нами. Мы постоянно участвовали в различных спартакиадах, сборах и соревнованиях на всех уровнях: школьных, районных, зональных и региональных. Конечно, во время этих мероприятий мы знакомились, завязывалась переписка, и даже создавались неформальные клубы по интересам. К заключительному этапу подготовки к службе в армии мы уже были знакомы с большинством ребят нашего года призыва не только у себя в районе, но и во всей ближайшей округе.
По завершении учёбы в школе мы выкраивали возможность потусоваться со сверстниками в неформальной обстановке на берегу моря. Наиболее подходящим местом считался город Сочи, главный курорт страны, где можно было и на людей посмотреть, и себя показать. Кроме того, мы могли туда добраться совершенно бесплатно: или по местной узкоколейке, или пешим строем в виде дневного перехода по просёлочной дороге, но с посещением знакомых и гостеприимных посёлков и хуторов. Мы предпочитали второй вариант, на место мы прибывали вечером и ночь проводили на пляже. От совершенно белых москвичей и других обитателей «Большой земли» мы отличались чёрным загаром и абсолютной неприхотливостью. Никаких тебе лежаков, зонтов, мазей и кремов! Мы не ставили перед собой никаких задач, кроме знакомств. Делалось это незамысловато и в полном соответствии с особенностями местности. Нам ничего не стоило пройти по пляжу всё побережье одним заходом, общаясь со старыми знакомыми и обзаводясь новыми. И при этом никогда не возникало никаких проблем с чьей бы то ни было стороны. Мы вникали во всё происходящее вокруг нас. И вот до нашего слуха дошла молва, что местные ребята занимаются не просто физкультурой, как все мы, а новым и очень престижным видом спорта – самбо. Тогда же я впервые услышал имя местной знаменитости в этой сфере – Оскиан Галустьян. Это был рослый, спортивно сложенный и красивый юноша.
Когда ему пришло время служить в армии, Оскиан попал во флот и проявил себя с самой лучшей стороны, за что получил рекомендацию командования в училище правоохранительной системы. По завершении учёбы молодой лейтенант Галустьян был направлен на самую знаменитую стройку того времени – БАМ. Прибыл он туда с молодой женой Надей, и, по всеобщему мнению, были они самой красивой четой всесоюзной молодёжной стройки. Надя представляла собой лучший образец женской добродетели и красоты. Ну, а сам Оскиан – воплощение рыцарского благородства! И такими они запомнились своим друзьям и коллегам по нелёгкой работе. Не случайно этот человек был удостоен не только высокого воинского звания, ему доверили подбор, расстановку и воспитание кадров.
А после событий августа 1991 года, когда страна переживала трудную пору распада и перемещения с насиженных мест огромной массы людей, генерал Оскиан Галустьян доказал, что ему присущи и гражданская позиция, и профессиональная ответственность.
В ту пору я как активный участник движения за возрождение казачества с полномочиями представителя Кубанской казачьей Рады в Москве нашёл в его лице сторонника. Мне тогда представлялось самым рациональным создание при главе администрации Краснодарского края специальной общественной структуры по работе с вынужденными переселенцами для их организованного и управляемого обустройства и адаптации под эгидой земляческих общин. Кадровый сотрудник службы внутренних дел Оскиан Галустьян был искренне озабочен этой проблемой и всячески поддерживал казачьи инициативы. Но одного желания решить проблему было недостаточно. И тогда появилась идея выдвинуть генерала в депутаты Думы, и уже оттуда решать актуальную для региона проблему. Я, как представитель кубанского казачества, вошёл в группу поддержки кандидата. Наш путь лежал в посёлок Горячий Ключ, где и предстояло объявить о начале избирательной кампании. Есть в Горячем Ключе одно примечательное место – развилка и заправка, место всяческих нужных и ненужных встреч. Подъезжаем мы к ней, и я вижу группу местных казаков в форме и при холодном оружии во главе с сотником Седокуром. Выхожу из машины и – к ним… После ритуальных приветствий и объятий спрашиваю, куда это они направляются в боевой экипировке. Отвечают, что едут на перевал армян рубать. Это, конечно, была просто неуклюжая бравада. Так, для красного словца. И я решил преподнести им урок учтивости. Спрашиваю казаков, зачем, мол, таскаться на какой-то перевал, когда у меня в машине сидит армянин… И жестом приглашаю его выйти из машины. Дверцы автомобиля распахнулись, и перед обалдевшими казаками во весь свой гренадёрский рост и во всём блеске возник настоящий генерал. Немая сцена и протяжное: «Да-а-а-а…». И после секундной паузы – бодрый, как и положено военным людям, рапорт выступившего вперёд сотника: «Товарищ генерал, группа казаков города Горячий Ключ на дежурстве по обеспечению общественного порядка. Старший наряда – сотник Седокур». Потом последовали взаимные рукопожатия и задушевная беседа о делах и проблемах. А несколько позже и моё выступление по местному радио с призывом поддержать на предстоящих выборах в Думу заслуженного и достойного земляка.
Росли мы в обстановке острой нужды и выживали исключительно благодаря суровому опыту жизни и осознанному коллективизму. Наша благодатная местность была покрыта множеством небольших городков, посёлков, станиц и хуторов. Их население было связано либо родственными, либо крепкими куначескими отношениями, и все постоянно находились в контакте. Для нас, детей, это обстоятельство было особенно благоприятно и всегда гарантировало самое горячее участие родни в наших делах. Мы знали почти всех родственников друг друга, где бы они ни жили: в предгорьях, в горах или даже на берегу моря. Например, у моего друга Виктора Никитенко бабушка жила в станице Самурской, в дюжине километров от нашего городка. Это не мешало ему с ранней весны до поздней осени навещать её после школы и к восьми утра следующего дня как ни в чём не бывало успевать к началу занятий. Походы в гости к бабушке порой сопрягались с серьёзными испытаниями. Самыми обычными из них были встречи с волками. Привыкшие за годы войны к дармовой добыче в виде падали, эти звери совсем не боялись людей, а порой даже охотились на них. Однажды в начале марта, как раз в пору волчьей свадьбы, Виктор привычно направился в гости. Прошёл он уже большую часть пути, как вдруг на открытом пространстве лесосеки в полукилометре от себя увидел волчью кичку, не менее десятка особей… Спасение было только в ногах, и он налёг… Потом рассказывал, что ощущал удары своих пяток по собственному затылку… Мне похожее испытание довелось пережить в двенадцать лет, когда на мою долю выпало перегнать нашу корову через горы в Сочи для продажи на мясо. Путь не превышал восьмидесяти километров и был рассчитан максимум на неделю. Однако в пути наш караван из тридцати голов животных и трёх погонщиков столкнулся с невероятными трудностями в виде обложного дождя и непросыхающей одежды. Нашим главным был местный житель, заядлый охотник и знаток всех потайных партизанских троп Рубен Петрович Хартьян. Но в условиях проливных дождей все водные преграды, даже ручьи и речушки, стали абсолютно непреодолимы и даже смертельно опасны как для животных, так и для людей. И, потеряв при попытке переправы одного годовалого бычка, мы отказались от дальнейших попыток испытывать судьбу. И вот тут-то и выручила солидарность местных жителей, которые помогли пристроить измученных животных и приютили выбившихся из сил людей.
* * *
В ту далёкую пору мы, школьники, находились в состоянии постоянной подготовки к нормам БГТО («Будь готов к труду и обороне»). Это не было формальностью. Наша физическая подготовка на самом деле отвечала поставленной задаче. Это являлось жизненной нормой и очень помогало нам в последующей жизни, начиная с ранней юности, когда в восьмом классе мы проходили приписку по линии военкомата. В то время этот этап жизни молодого человека считался жизнеутверждающим, мы проходили аттестацию на максимальную пригодность Родине. С этого момента мы постоянно находились в поле зрения военных властей: успеваемость, дисциплина, поведение, коммуникабельность, отношение к воинской службе в целом и предпочтение рода войск в частности. До самого призыва шла эта работа с нами. Мы постоянно участвовали в различных спартакиадах, сборах и соревнованиях на всех уровнях: школьных, районных, зональных и региональных. Конечно, во время этих мероприятий мы знакомились, завязывалась переписка, и даже создавались неформальные клубы по интересам. К заключительному этапу подготовки к службе в армии мы уже были знакомы с большинством ребят нашего года призыва не только у себя в районе, но и во всей ближайшей округе.
По завершении учёбы в школе мы выкраивали возможность потусоваться со сверстниками в неформальной обстановке на берегу моря. Наиболее подходящим местом считался город Сочи, главный курорт страны, где можно было и на людей посмотреть, и себя показать. Кроме того, мы могли туда добраться совершенно бесплатно: или по местной узкоколейке, или пешим строем в виде дневного перехода по просёлочной дороге, но с посещением знакомых и гостеприимных посёлков и хуторов. Мы предпочитали второй вариант, на место мы прибывали вечером и ночь проводили на пляже. От совершенно белых москвичей и других обитателей «Большой земли» мы отличались чёрным загаром и абсолютной неприхотливостью. Никаких тебе лежаков, зонтов, мазей и кремов! Мы не ставили перед собой никаких задач, кроме знакомств. Делалось это незамысловато и в полном соответствии с особенностями местности. Нам ничего не стоило пройти по пляжу всё побережье одним заходом, общаясь со старыми знакомыми и обзаводясь новыми. И при этом никогда не возникало никаких проблем с чьей бы то ни было стороны. Мы вникали во всё происходящее вокруг нас. И вот до нашего слуха дошла молва, что местные ребята занимаются не просто физкультурой, как все мы, а новым и очень престижным видом спорта – самбо. Тогда же я впервые услышал имя местной знаменитости в этой сфере – Оскиан Галустьян. Это был рослый, спортивно сложенный и красивый юноша.
Когда ему пришло время служить в армии, Оскиан попал во флот и проявил себя с самой лучшей стороны, за что получил рекомендацию командования в училище правоохранительной системы. По завершении учёбы молодой лейтенант Галустьян был направлен на самую знаменитую стройку того времени – БАМ. Прибыл он туда с молодой женой Надей, и, по всеобщему мнению, были они самой красивой четой всесоюзной молодёжной стройки. Надя представляла собой лучший образец женской добродетели и красоты. Ну, а сам Оскиан – воплощение рыцарского благородства! И такими они запомнились своим друзьям и коллегам по нелёгкой работе. Не случайно этот человек был удостоен не только высокого воинского звания, ему доверили подбор, расстановку и воспитание кадров.
А после событий августа 1991 года, когда страна переживала трудную пору распада и перемещения с насиженных мест огромной массы людей, генерал Оскиан Галустьян доказал, что ему присущи и гражданская позиция, и профессиональная ответственность.
В ту пору я как активный участник движения за возрождение казачества с полномочиями представителя Кубанской казачьей Рады в Москве нашёл в его лице сторонника. Мне тогда представлялось самым рациональным создание при главе администрации Краснодарского края специальной общественной структуры по работе с вынужденными переселенцами для их организованного и управляемого обустройства и адаптации под эгидой земляческих общин. Кадровый сотрудник службы внутренних дел Оскиан Галустьян был искренне озабочен этой проблемой и всячески поддерживал казачьи инициативы. Но одного желания решить проблему было недостаточно. И тогда появилась идея выдвинуть генерала в депутаты Думы, и уже оттуда решать актуальную для региона проблему. Я, как представитель кубанского казачества, вошёл в группу поддержки кандидата. Наш путь лежал в посёлок Горячий Ключ, где и предстояло объявить о начале избирательной кампании. Есть в Горячем Ключе одно примечательное место – развилка и заправка, место всяческих нужных и ненужных встреч. Подъезжаем мы к ней, и я вижу группу местных казаков в форме и при холодном оружии во главе с сотником Седокуром. Выхожу из машины и – к ним… После ритуальных приветствий и объятий спрашиваю, куда это они направляются в боевой экипировке. Отвечают, что едут на перевал армян рубать. Это, конечно, была просто неуклюжая бравада. Так, для красного словца. И я решил преподнести им урок учтивости. Спрашиваю казаков, зачем, мол, таскаться на какой-то перевал, когда у меня в машине сидит армянин… И жестом приглашаю его выйти из машины. Дверцы автомобиля распахнулись, и перед обалдевшими казаками во весь свой гренадёрский рост и во всём блеске возник настоящий генерал. Немая сцена и протяжное: «Да-а-а-а…». И после секундной паузы – бодрый, как и положено военным людям, рапорт выступившего вперёд сотника: «Товарищ генерал, группа казаков города Горячий Ключ на дежурстве по обеспечению общественного порядка. Старший наряда – сотник Седокур». Потом последовали взаимные рукопожатия и задушевная беседа о делах и проблемах. А несколько позже и моё выступление по местному радио с призывом поддержать на предстоящих выборах в Думу заслуженного и достойного земляка.
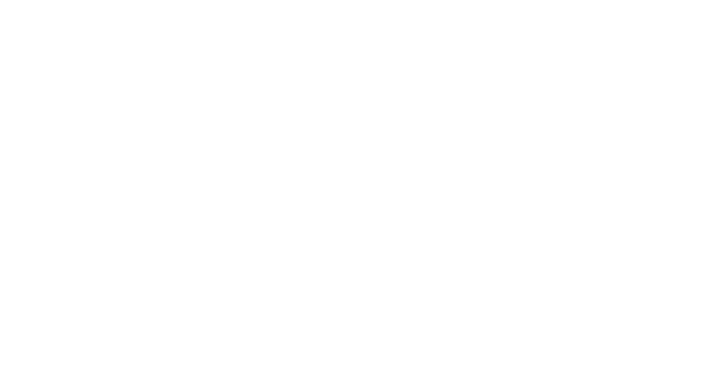
Далее наш путь пролегал в Сочи, где на телевидении мы должны были представить нашего кандидата в Государственную думу. Атмосфера была дружественная и доброжелательная. Генералу не требовались дополнительные рекомендации, поскольку его прекрасно знал потенциальный электорат. Проблема состояла в необходимости преодоления административного ресурса местного конкурента. У нашего кандидата уязвимым местом была его этническая принадлежность. И на фоне входившего тогда в моду горлопанства на этот счёт от меня, как доверенного лица, требовался какой-то ход. Я начал с довода о профессионализме и бойцовских качествах нашего кандидата и только потом перешёл к фамилии своего выдвиженца. Сразу объяснил, что речь идёт о русском генерале. Напомнил о Багратионе, Лорис-Меликове, Кантемире и Врангеле. О том, что речь идёт о заслуженном и высокопоставленном офицере, облечённом высоким доверием государства. И должен сказать, что до сих пор считаю роковой ошибкой избирателей, отдавших предпочтение конкуренту. Уверен, будь генерал Оскиан Галустьян тогда избран, нам бы удалось избежать многих неприятностей, включая и кущёвскую трагедию на Кубани. Ибо мы тогда упустили реальный шанс вручить свою судьбу в руки высококлассного, самоотверженного, опытного, отличавшегося бойцовскими качествами и личным мужеством человека. С тех пор прошло более четверти века, и теперь со всей определённостью видно, что в ту избирательную кампанию в первую очередь проиграл не наш кандидат, а все мы, не утруждавшие себя заботой об интересах Отечества. А лично я благодарен судьбе за удачу, за то, что встретил на своём жизненном пути таких людей, как генерал Галустьян, пример искреннего служения и неустанного подвижничества.
Олег БЕЗРОДНЫЙ,
ветеран военной службы
~
Розовые деньги
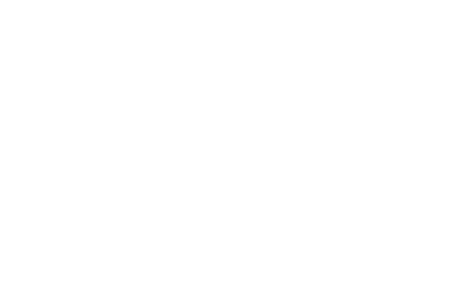
Новость о том, что японские селекционеры вывели сорт квадратных арбузов, с белой мякотью, без семечек вызвала во мне протест. Да кому, собственно, нужны эти извращения, и неужели учёным больше нечем заняться?! Не отрицая необходимости научных открытий, я за то, чтобы роза оставалась розовой, а сирень – сиреневой. Ведь у каждого из нас есть особо охраняемый памятью заповедный уголок души, которому необдуманное соперничество с природой, грозит разорением. Вот уж исчезли в нашем Предгорье плантации роз, ставшие для моих внуков «преданьями старины глубокой». А ведь именно розовые плантации были для меня первым «ожогом » от встречи с красотой и величием природы.
Прекрасное и обыденное всегда ходят рядом. Розы, воспетые поэтами разных эпох, для нас были ещё и способом заработать деньги, осуществить свою детскую мечту. Единственным крупным предприятием в предгорном посёлке Нефтегорске, в шестидесятые годы, был эфиромасличный совхоз. Из мяты, шалфея, азалии, розы производили на заводе в «Новом городке» эфирные масла, которые пользовались спросом в Прибалтике для производства косметики и лечебных препаратов. Посёлок окружали плантации роз, принадлежавшие совхозу. С середины мая гребни холмов покрывались нежно-розовой дымкой, воздух наполнялся благоуханием цветущих роз, и у поселковой ребятни начиналась розовая лихорадка, сродни золотой, о которой мы читали в книжках Джека Лондона.
Представляете, каково это жить в центре гигантской розовой клумбы?! Считанные деньки отделяли нас от летних каникул, и об учёбе, конечно, никто уже не думал. На переменах мы обсуждали детали ежегодного общешкольного «Звёздного похода», которым заканчивался каждый учебный год, и ломали голову над тем, как заработать побольше денег на походы летом. Это теперь родители определяют, куда повезут летом своих чад. Мы же были самостоятельны в своём выборе, потому что рассчитывали на собственные средства. Благо, возможность заработать деньги на сборе роз была реальной даже для младших школьников.
Готовились к началу сезона основательно. Запасались резиновыми сапогами, мешками, фартуком, в который складывали сорванное сырьё. Собирать розы начинали с рассветом до того, как начнет припекать солнце. Поутру розовые кусты и трава между ними были обильно покрыты росой, в считанные минуты до самого пояса одежда пропитывалась утренней влагой. Но мы не обращали на это внимания и даже радовались тому, что влажные цветы потянут при сдаче на весах больше.
Когда мешок наполнялся розами на треть, таскать его за собой по вспаханной земле междурядий становилось неудобно. Нужно было спрятать его между кустами так, чтобы легко найти, и при этом, чтобы он не стал лёгкой добычей других сборщиков. Случалось, что мешки терялись или их воровали. Но больше огорчения было не от его утраты, а от испорченного настроения. Возможно, я смотрю теперь на прошлое через розовые очки, но мне кажется, что уже в том возрасте я интуитивно чувствовала, что в этой утренней цветочной гармонии суета и раздражение не уместны. Сбор «розочек» был для нас некой мистерией нарождающегося дня и предвосхищением летних открытий. В те годы мы поголовно бредили туризмом, знали наизусть все пешие туристические маршруты, которые проходили рядом с нашим посёлком. При всей скромности туристического снаряжения тех лет, деньги для участия в походах всё же были необходимы.
Для ручного сбора роз требовался навык. Прижимаешь двумя пальцами, сверху и снизу, розетку распустившегося цветка и резким движением поворачиваешь её вправо. Характерный щелчок, и цветок отправляется в потемневший от росы фартук. На «розочки» надевали самую старую одежду, которая быстро превращалась в лохмотья. Издалека люди на плантациях своей обтрёпанностью напоминали пленных немцев. Но никто из нас на это не обращал ни малейшего внимания. По мере того, как в жестяной банке из-под леденцов прибавлялось денег, азарт нарастал. Но это не было скопидомством, поскольку была у каждого высокая цель. Восприимчивая детская душа раз за разом замирала перед «облитым» цветом розовым кустом, к которому не успели прикоснуться руки сборщиков. Запах розовых кустов с плантаций ни в какое сравнение нельзя поставить с «длинноногими» розами из Эквадора или Голландии. Этим глянцевым клонам генной инженерии далеко до наших пейзанок! Восторг и сожаление от того, что всё это великолепие нужно сорвать и сложить в мешок, это борение между прекрасным и прозой жизни невольно накладывали отпечаток на характер.
Независимо от того, как сложилась жизнь моих сверстников, все мы до самозабвения остались влюблены в природу, а воспоминание о том, как зарабатывали «на розочках» деньги для походов, сделало нас во взрослой жизни почти роднёй.
Дотащив мешок до приёмного пункта в отделении совхоза на Сулеймановке, мы ревностно следили за взвешиванием. Получив клочок бумажки с весом и подписью весовщика, отправлялись в кассу. В самые удачные дни случалось заработать копеек семьдесят. За килограмм роз платили 3 копейки. Приёмщик выгружал розы из мешков в прицеп трактора «Беларусь». Иногда детей просили залезть в кузов, чтобы равномерно распределить цветы. Тут уж мы давали волю воображению! Кувыркались, лежали на мягкой цветочной перине, раскинув руки до тех пор, пока голова не начинала кружиться от густого дурманящего запаха, или приёмщик окриком не возвращал нас в реальность. Мы словно чувствовали, что подобная королевская роскошь больше никогда в нашей жизни не повторится…
А потом долго сидели в тени под навесом, прислушивались к разговорам взрослых, в надежде узнать, на какой из плантаций самое буйное цветение, чтобы завтра отправиться: на Хопры, 512-й участок, на хутор Червяков или Папортный или ещё куда-то. Розовых плантаций в округе было десятка полтора. В сущности, когда начиналось цветение, большой разницы между ними не было, но азарт брал своё. Нам казалось, что именно на дальних плантациях нас поджидает настоящая удача. А то, что путь туда длиннее и до отделения совхоза придётся нести полный мешок, никто из нас не думал. Дух авантюризма заглушал здравый смысл.
Что и говорить, для подростков это была нелёгкая работа. Недосыпание за полтора месяца превращалось в хроническое, лица покрывались царапинами, руки – саднящими занозами. Но близость к заветной мечте, и тяжелеющая с каждым днём жестянка с монетами придавала мне сил.
Старшие копили деньги на многодневный пеший поход на Красную поляну. Каждое лето вместе с учителем физкультуры Василием Михайловичем старшеклассники школы-восьмилетки на Победе отправлялись в многодневный поход через горные перевалы к Чёрному морю. Спускались с гор в районе посёлка Дагомыса. Несколько дней ребята жили в палатках на берегу моря, купались, ездили в Сочи на экскурсии, а обратно возвращались домой поездом. Для такого похода требовалось 25–30 рублей. Брать деньги на поход у родителей, было не принято. В том, чтобы заработать их на «розочках», был особый шик. Это была ещё и проверка на выносливость, ведь поход, который длился дней десять, требовал от его участников особой физической закалки. Зато те, кто попадал в число участников похода, переходили в глазах учителей, одноклассников и родителей в новое качество – людей проверенных и надёжных.
Возвращения из летних походов ждали всей улицей. Разговоров и воспоминаний его участникам хватало на всё лето. Вечером, усевшись на сваленные под калиткой нашего дома брёвна, походники пели новые песни, вспоминали забавные случаи и розыгрыши. Малышню держали на расстоянии, но, пользуясь ночной темнотой, мы всё равно подползали к тесной компании, с завистью слушали разговоры и песни, напитываясь романтикой дорог.
Горы, реки и леса нам Аллахом даны,
Чтоб смотрели небеса, как туристы смешны,
Перешли мы перевал, языки на плечо,
Горный дух хохотал, хохотал горячо.
Под неумелые аккорды гитариста Евгения Куликова взмывали в ночное небо молодые голоса. Слова самодеятельной песни, положенные на мотив популярной в те годы песни «Двое замуж берут: Мухамед и Абдула», которую исполняла тогдашняя икона стиля Эдита Пьеха, казались нам верхом поэзии. За каждым куплетом следовал припев: «А-ла-ла-ла-лай-ла, о-хо-хо-хо-хо!» Тут уж «мелкие» дружно подхватывали припев, рискуя быть изгнанными с поляны. Друзья моего детства на всю жизнь так и остались неисправимыми романтиками. Вспоминая в ближнем кругу детство, «розочки» и походы я всегда рассказываю об этом случае.
После 4 класса учитель физкультуры пообещал взять меня летом в поход на Красную поляну, учитывая мою отличную спортивную подготовку, и то, что в поход пойдёт моя старшая сестра Женя – человек ответственный и серьёзный не по годам. В этот сезон я собирала розы с особым рвением и уже была близка к необходимой сумме. Как-то мама послала меня за хлебом в магазин. Весь товар в нашем общем магазине мы знали наперечёт. На прилавке оплывали от жары прямоугольные глыбы конфет-подушечек, фиников и маргарина. На полке стояли брикеты с киселём и кофе с молоком, которые мы с удовольствием ели сухими. В отделе «обувь и одежда» висели несколько примелькавшихся ситцевых халатов и байковые женские рейтузы с начёсом розового цвета, да ещё рулон с клеёнкой. Магазин всегда был увешан липкой лентой от мух, которую продавщицы почему-то забывали убирать зимой. В этот раз в магазин привезли обувь.
Рядом с коричневыми бесполыми кожаными сандалиями фабрики «Скороход», в которых летом ходили поголовно все мальчики и девочки, кстати, невероятно носкими, стояли ярко-жёлтые блестящие клеёнчатые босоножки 36 размера. Они поразили моё воображение своим изяществом и тем, что продавец назвала их новым для меня словом «танкетки». Стоили они 6 рублей, что по тем временам было недёшево. Неделю меня мучило искушение. Купить босоножки означало отказаться от похода, который стал для меня заветной мечтой. Но женское начало взяло верх, как под гипнозом, переполовинив деньги из «походной» банки, к концу недели я отправилась в магазин и купила босоножки, не меряя. Продавщица решила, что я покупаю их для сестры.
Как я не затягивала сзади хлястик на босоножках, они были мне безнадёжно велики, размера на два, а то и три. Нога соскальзывала с непривычно приподнятой подошвы, походка моя напоминала ковыляние. Вопреки ожиданию никто из сверстниц не выразил по поводу моей покупки ни восторга, ни зависти. Мой старший брат Толик со смехом пародировал мою походку: « Семенишь, как утка!» Кончилось тем, что подошва у босоножек отклеилась через неделю, я вывихнула голеностопный сустав, и моё страстное желание – попасть в многодневный поход в это лето – оказалось несбыточным. Поход я профукала. Это был урок, который научил меня не предавать мечты. И я благодарна судьбе за эту науку.
Ряды одноклассников с каждым годом редеют, теперь мы уже встречаемся с земляками не по принципу классов и школ. Нас объединяет наш посёлок. Неизменно встречи проходят в августе на природе в излюбленных местах нашего детства: на Аваковом озере, которое построили наши родители методом народной стройки, или в Лаго-Наках на базе у заядлого туриста Володи Криночкина до сих пор бредящего горами, на фонтане, либо на нарзане на Третьем отводе. С гордостью подмечаю, что после встреч мы никогда не оставляем после себя следов. Выросшие на природе, мы уверены в том, что природу нет нужды улучшать, её надо беречь.
Прекрасное и обыденное всегда ходят рядом. Розы, воспетые поэтами разных эпох, для нас были ещё и способом заработать деньги, осуществить свою детскую мечту. Единственным крупным предприятием в предгорном посёлке Нефтегорске, в шестидесятые годы, был эфиромасличный совхоз. Из мяты, шалфея, азалии, розы производили на заводе в «Новом городке» эфирные масла, которые пользовались спросом в Прибалтике для производства косметики и лечебных препаратов. Посёлок окружали плантации роз, принадлежавшие совхозу. С середины мая гребни холмов покрывались нежно-розовой дымкой, воздух наполнялся благоуханием цветущих роз, и у поселковой ребятни начиналась розовая лихорадка, сродни золотой, о которой мы читали в книжках Джека Лондона.
Представляете, каково это жить в центре гигантской розовой клумбы?! Считанные деньки отделяли нас от летних каникул, и об учёбе, конечно, никто уже не думал. На переменах мы обсуждали детали ежегодного общешкольного «Звёздного похода», которым заканчивался каждый учебный год, и ломали голову над тем, как заработать побольше денег на походы летом. Это теперь родители определяют, куда повезут летом своих чад. Мы же были самостоятельны в своём выборе, потому что рассчитывали на собственные средства. Благо, возможность заработать деньги на сборе роз была реальной даже для младших школьников.
Готовились к началу сезона основательно. Запасались резиновыми сапогами, мешками, фартуком, в который складывали сорванное сырьё. Собирать розы начинали с рассветом до того, как начнет припекать солнце. Поутру розовые кусты и трава между ними были обильно покрыты росой, в считанные минуты до самого пояса одежда пропитывалась утренней влагой. Но мы не обращали на это внимания и даже радовались тому, что влажные цветы потянут при сдаче на весах больше.
Когда мешок наполнялся розами на треть, таскать его за собой по вспаханной земле междурядий становилось неудобно. Нужно было спрятать его между кустами так, чтобы легко найти, и при этом, чтобы он не стал лёгкой добычей других сборщиков. Случалось, что мешки терялись или их воровали. Но больше огорчения было не от его утраты, а от испорченного настроения. Возможно, я смотрю теперь на прошлое через розовые очки, но мне кажется, что уже в том возрасте я интуитивно чувствовала, что в этой утренней цветочной гармонии суета и раздражение не уместны. Сбор «розочек» был для нас некой мистерией нарождающегося дня и предвосхищением летних открытий. В те годы мы поголовно бредили туризмом, знали наизусть все пешие туристические маршруты, которые проходили рядом с нашим посёлком. При всей скромности туристического снаряжения тех лет, деньги для участия в походах всё же были необходимы.
Для ручного сбора роз требовался навык. Прижимаешь двумя пальцами, сверху и снизу, розетку распустившегося цветка и резким движением поворачиваешь её вправо. Характерный щелчок, и цветок отправляется в потемневший от росы фартук. На «розочки» надевали самую старую одежду, которая быстро превращалась в лохмотья. Издалека люди на плантациях своей обтрёпанностью напоминали пленных немцев. Но никто из нас на это не обращал ни малейшего внимания. По мере того, как в жестяной банке из-под леденцов прибавлялось денег, азарт нарастал. Но это не было скопидомством, поскольку была у каждого высокая цель. Восприимчивая детская душа раз за разом замирала перед «облитым» цветом розовым кустом, к которому не успели прикоснуться руки сборщиков. Запах розовых кустов с плантаций ни в какое сравнение нельзя поставить с «длинноногими» розами из Эквадора или Голландии. Этим глянцевым клонам генной инженерии далеко до наших пейзанок! Восторг и сожаление от того, что всё это великолепие нужно сорвать и сложить в мешок, это борение между прекрасным и прозой жизни невольно накладывали отпечаток на характер.
Независимо от того, как сложилась жизнь моих сверстников, все мы до самозабвения остались влюблены в природу, а воспоминание о том, как зарабатывали «на розочках» деньги для походов, сделало нас во взрослой жизни почти роднёй.
Дотащив мешок до приёмного пункта в отделении совхоза на Сулеймановке, мы ревностно следили за взвешиванием. Получив клочок бумажки с весом и подписью весовщика, отправлялись в кассу. В самые удачные дни случалось заработать копеек семьдесят. За килограмм роз платили 3 копейки. Приёмщик выгружал розы из мешков в прицеп трактора «Беларусь». Иногда детей просили залезть в кузов, чтобы равномерно распределить цветы. Тут уж мы давали волю воображению! Кувыркались, лежали на мягкой цветочной перине, раскинув руки до тех пор, пока голова не начинала кружиться от густого дурманящего запаха, или приёмщик окриком не возвращал нас в реальность. Мы словно чувствовали, что подобная королевская роскошь больше никогда в нашей жизни не повторится…
А потом долго сидели в тени под навесом, прислушивались к разговорам взрослых, в надежде узнать, на какой из плантаций самое буйное цветение, чтобы завтра отправиться: на Хопры, 512-й участок, на хутор Червяков или Папортный или ещё куда-то. Розовых плантаций в округе было десятка полтора. В сущности, когда начиналось цветение, большой разницы между ними не было, но азарт брал своё. Нам казалось, что именно на дальних плантациях нас поджидает настоящая удача. А то, что путь туда длиннее и до отделения совхоза придётся нести полный мешок, никто из нас не думал. Дух авантюризма заглушал здравый смысл.
Что и говорить, для подростков это была нелёгкая работа. Недосыпание за полтора месяца превращалось в хроническое, лица покрывались царапинами, руки – саднящими занозами. Но близость к заветной мечте, и тяжелеющая с каждым днём жестянка с монетами придавала мне сил.
Старшие копили деньги на многодневный пеший поход на Красную поляну. Каждое лето вместе с учителем физкультуры Василием Михайловичем старшеклассники школы-восьмилетки на Победе отправлялись в многодневный поход через горные перевалы к Чёрному морю. Спускались с гор в районе посёлка Дагомыса. Несколько дней ребята жили в палатках на берегу моря, купались, ездили в Сочи на экскурсии, а обратно возвращались домой поездом. Для такого похода требовалось 25–30 рублей. Брать деньги на поход у родителей, было не принято. В том, чтобы заработать их на «розочках», был особый шик. Это была ещё и проверка на выносливость, ведь поход, который длился дней десять, требовал от его участников особой физической закалки. Зато те, кто попадал в число участников похода, переходили в глазах учителей, одноклассников и родителей в новое качество – людей проверенных и надёжных.
Возвращения из летних походов ждали всей улицей. Разговоров и воспоминаний его участникам хватало на всё лето. Вечером, усевшись на сваленные под калиткой нашего дома брёвна, походники пели новые песни, вспоминали забавные случаи и розыгрыши. Малышню держали на расстоянии, но, пользуясь ночной темнотой, мы всё равно подползали к тесной компании, с завистью слушали разговоры и песни, напитываясь романтикой дорог.
Горы, реки и леса нам Аллахом даны,
Чтоб смотрели небеса, как туристы смешны,
Перешли мы перевал, языки на плечо,
Горный дух хохотал, хохотал горячо.
Под неумелые аккорды гитариста Евгения Куликова взмывали в ночное небо молодые голоса. Слова самодеятельной песни, положенные на мотив популярной в те годы песни «Двое замуж берут: Мухамед и Абдула», которую исполняла тогдашняя икона стиля Эдита Пьеха, казались нам верхом поэзии. За каждым куплетом следовал припев: «А-ла-ла-ла-лай-ла, о-хо-хо-хо-хо!» Тут уж «мелкие» дружно подхватывали припев, рискуя быть изгнанными с поляны. Друзья моего детства на всю жизнь так и остались неисправимыми романтиками. Вспоминая в ближнем кругу детство, «розочки» и походы я всегда рассказываю об этом случае.
После 4 класса учитель физкультуры пообещал взять меня летом в поход на Красную поляну, учитывая мою отличную спортивную подготовку, и то, что в поход пойдёт моя старшая сестра Женя – человек ответственный и серьёзный не по годам. В этот сезон я собирала розы с особым рвением и уже была близка к необходимой сумме. Как-то мама послала меня за хлебом в магазин. Весь товар в нашем общем магазине мы знали наперечёт. На прилавке оплывали от жары прямоугольные глыбы конфет-подушечек, фиников и маргарина. На полке стояли брикеты с киселём и кофе с молоком, которые мы с удовольствием ели сухими. В отделе «обувь и одежда» висели несколько примелькавшихся ситцевых халатов и байковые женские рейтузы с начёсом розового цвета, да ещё рулон с клеёнкой. Магазин всегда был увешан липкой лентой от мух, которую продавщицы почему-то забывали убирать зимой. В этот раз в магазин привезли обувь.
Рядом с коричневыми бесполыми кожаными сандалиями фабрики «Скороход», в которых летом ходили поголовно все мальчики и девочки, кстати, невероятно носкими, стояли ярко-жёлтые блестящие клеёнчатые босоножки 36 размера. Они поразили моё воображение своим изяществом и тем, что продавец назвала их новым для меня словом «танкетки». Стоили они 6 рублей, что по тем временам было недёшево. Неделю меня мучило искушение. Купить босоножки означало отказаться от похода, который стал для меня заветной мечтой. Но женское начало взяло верх, как под гипнозом, переполовинив деньги из «походной» банки, к концу недели я отправилась в магазин и купила босоножки, не меряя. Продавщица решила, что я покупаю их для сестры.
Как я не затягивала сзади хлястик на босоножках, они были мне безнадёжно велики, размера на два, а то и три. Нога соскальзывала с непривычно приподнятой подошвы, походка моя напоминала ковыляние. Вопреки ожиданию никто из сверстниц не выразил по поводу моей покупки ни восторга, ни зависти. Мой старший брат Толик со смехом пародировал мою походку: « Семенишь, как утка!» Кончилось тем, что подошва у босоножек отклеилась через неделю, я вывихнула голеностопный сустав, и моё страстное желание – попасть в многодневный поход в это лето – оказалось несбыточным. Поход я профукала. Это был урок, который научил меня не предавать мечты. И я благодарна судьбе за эту науку.
Ряды одноклассников с каждым годом редеют, теперь мы уже встречаемся с земляками не по принципу классов и школ. Нас объединяет наш посёлок. Неизменно встречи проходят в августе на природе в излюбленных местах нашего детства: на Аваковом озере, которое построили наши родители методом народной стройки, или в Лаго-Наках на базе у заядлого туриста Володи Криночкина до сих пор бредящего горами, на фонтане, либо на нарзане на Третьем отводе. С гордостью подмечаю, что после встреч мы никогда не оставляем после себя следов. Выросшие на природе, мы уверены в том, что природу нет нужды улучшать, её надо беречь.
Галина ВИНОГРАДОВА
~
Тот самый...
1 мая исполнилось ровно 298 лет и 172 дня барону
Карлу Фридриху Иерониму фон МЮНХГАУЗЕНУ
Карлу Фридриху Иерониму фон МЮНХГАУЗЕНУ
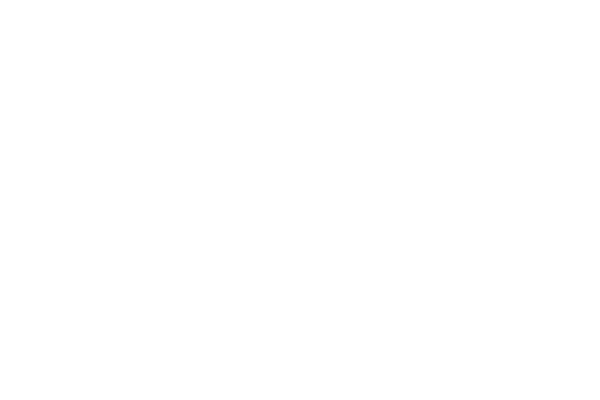
Сергей КАЩЕЕВ
– «Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы? – Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать». (Здесь и далее цитаты из х/ф "Тот самый Мюнхгаузен").
Настоящий, а не литературный герой, потомок древнего нижнесаксонского рода, родился в Германии в городе Боденвердер 1 февраля 1720 года. В 1737 году приезжает служить в Россию. В 1738 участвует в турецкой компании. За мужество и преданность в 1741 получает чин поручика и командование элитной ротой лейб-гвардии. В этом качестве в 1744 году командует почётным караулом, встречающим в Риге принцессу Софию Ангальт-Цербскую (будущую императрицу Екатерину II-ю).
Подав в отставку, вернулся на родину и остаток жизни провёл в бесконечных рассказах своим друзьям о своей службе в России. Умел такой успех среди земляков, что прослыл великолепным рассказчиком и отъявленным вруном. Его самые яркие истории расходились по окрестностям, как анекдоты и, наконец, были замечены литераторами.
Ещё при жизни барона несколько книг о его приключениях вышли в Германии и в Англии. Сам барон этому был совсем не рад и даже пытался судиться с авторами. Потому что в жизни и в быту слыл среди своих знакомых и земляков, как совершенно честный и правдивый человек! Чего совершенно лишался во время своих устных фантазий. Въезд в Петербург на волке, запряжённом в сани, конь, разрезанный пополам в Очакове, взбесившиеся шубы, вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя, полёт на луну на пушечном ядре и т. д. – все эти истории были услышаны и записаны не одним слушателем. Что подтверждает талант барона-фантазёра, как рассказчика.
Даже в России его истории были напечатаны ещё при жизни барона. В 1791 году под авторством Н. Осипова вышел вольный перевод рассказов Мюнхгаузена под очень удачным и точно характеризующим творчество барона заголовком "Не любо – не слушай, а врать не мешай".
Трудно пройти мимо юбилея такого замечательного человека. И не только потому, что мы все врать горазды. Кто-то только делает это ради красного словца, как юбиляр, а кто-то ради зелёных бумажек. Ну как не поговорить о наследниках барона в дни его юбилейных торжеств? Это было бы даже неприлично, право! Хотя эта тема ...сомнительная. Даже в известном и всеми любимом фильме барону (Олегу Янковскому) его законная жена (Инна Чурикова) об этом намекает:"...Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?"
Только давайте сразу договоримся, а что же такое – "враньё". Предположим, что это "заведомо ложная информация, выдаваемая за правду, имеющая определённые цели, приносящие лгуну разного рода выгоду". Поищем родственные варианты. Например, художественная литература. Почти полное попадание. Все писатели и поэты – отъявленные лгуны. Не будете же вы спорить, что никаких таких Анн Каренин, Раскольниковых, Остапов Бендеров, Евгениев Онегиных, Печориных, Василиев Тёркиных не было! Соврали нам уважаемые классики. Придумали всё до последней строчки. И, заметьте, не бескорыстно! Деньги, слава, привилегии, уважение, самоутверждение – каждый выбирает для себя. Достоевский так даже чаще всего из-за карточных долгов и брался за перо. Твардовский получил Сталинскую премию, дачу в Переделкино, почёт и уважение. Пушкин тоже всё время в долг жил и торговался с издателями за каждую строчку. При этом не отказывал себе в мирских искушениях. И уезжал в своё Михайловское от греха подальше, чтоб денег заработать.
А Мюнхгаузен зачем врал? Уважение у земляков заработать? Так они ж над ним потешались! При жизни барона доставали толпы приезжих зевак – посмотреть на барона-вруна! А деньги от издания его фантазий получали всякие Распе, Бюргеры, Линары, записавшие и издавшие его рассказы. Сомнительная выгода. Так что выходит: не был барон лгуном. Не попадает он под наше определение. И можем ли мы назвать вруном писателя Шаламова, писавшего свои "Колымские рассказы", заведомо зная, что за них он не только денег не получит, а только новый срок. И можем ли мы назвать ложью ответ булгаковского Га-Ноцри Понтию Пилату на его вопрос: "Ведь не было этого всего? Ведь не было?!" "Конечно, не было. Это всё тебе приснилось!" – ответил сжалившийся над стариком философ. И врём ли мы с выгодой, если успокаиваем безнадёжно больного, рассказываем сказки детям, пишем родителям, что "у меня всё хорошо", хотя застрелиться хочется. «Но я же сказал правду! – Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!»
Да, мы уже настолько привыкли ко лжи, что даже не обращаем на это никакого внимания. Даже наоборот. Мы слушали и понимали, что это сигнал: раз врут – значит это кому-нибудь нужно. Нам лгали про "Продовольственную программу" – мы засучивали рукава и копали огороды и дачные грядки. Нам врали: "Всем квартиры к 2000 году". Мы понимали это так, что теперь уже точно медлить нельзя и всячески старались купить участок для строительства себе своего дома самостоятельно. И, вспомните, именно самый лгущий журнальчик "Агитатор" все поголовно использовали не по назначению, в дачных клозетах.
Мы уже настолько привыкли ко лжи, что именно чужое враньё помогает принимать правильное решение. Ложь, нас окружающая, стала элементом естественного отбора. Те, кто поверил словам из репродукторов о том, что взрыв в Чернобыле – рядовая и неопасная авария – вымерли. А те, кто тут же собрался и уехал, а не остался загорать на пляжах реки Припять – выжили.
Столько мы с вами слышали о надёжности и безопасности тех или иных технических сооружений, что именно поэтому с особым подозрением теперь относимся к этому монстру в Швейцарии – коллайдеру?! А кто ж не станет бояться, если тонут "непотопляемые" Титаники, падают самые надёжные самолёты, тонут самые современные подлодки, взрывается самая надёжная в России шахта "Распадская", в Мексиканский залив хлещет нефть из скважины самой авторитетной английской нефтяной компании? И ведь врали нам совсем не глупые люди! "Мне сказали – умный человек. – Ну, мало ли что про человека болтают!"
А что уж говорить про враньё по телевизору? Особенно в рекламе. Это тема для особого разговора, но если посмотреть нашу рекламу и сделать некий срез, то впечатление об интересах соотечественников создастся довольно пошлое. Женщины думают только о гладкости собственной шкурки, о похудении и шоколаде. Мужчины – о бритье, мужской потенции, "Дошираке" и "Роллтоне". И все без исключения – о тарифах на сотовую связь. При этом все телезрители отлично понимают, что "отправьте SMS на этот короткий номер и вы..." – это просто прямое надувательство, но вот узнаю, что таким образом в России сотовые мошенники заработали только в этом году 40 миллионов долларов! Значит, кто-то верит?
«Ваше Высочество, ну не идите против своей совести. Я знаю, вы благородный человек и в душе тоже против Англии. – Да, в душе против. Да, она мне не нравится. Но я сижу и помалкиваю!»
А вот другая цифра. 78% россиян считают, что в декларациях высших чиновников представлена ничтожная часть их доходов, и только 2% оптимистов полагают, что они не врут ("Аргументы и факты" N 19. 2017). О чём мы говорим! Жили, живём и жить будем. Как-нибудь сами. Мы уже привыкли. Мы уже, наверное, без этого как-то не можем. Поэтому и любимый герой у нас тот самый Мюнхгаузен. И совсем не важно, летал он на Луну, или нет. Главное, что он никогда не врёт.
P. S. "Ну, вот и славно! И не надо так трагично, дорогой мой. Смотрите на это с присущим вам юмором... С юмором!... В конце концов, Галилей-то у нас тоже отрекался. – Поэтому я всегда больше любил Джордано Бруно..."
Настоящий, а не литературный герой, потомок древнего нижнесаксонского рода, родился в Германии в городе Боденвердер 1 февраля 1720 года. В 1737 году приезжает служить в Россию. В 1738 участвует в турецкой компании. За мужество и преданность в 1741 получает чин поручика и командование элитной ротой лейб-гвардии. В этом качестве в 1744 году командует почётным караулом, встречающим в Риге принцессу Софию Ангальт-Цербскую (будущую императрицу Екатерину II-ю).
Подав в отставку, вернулся на родину и остаток жизни провёл в бесконечных рассказах своим друзьям о своей службе в России. Умел такой успех среди земляков, что прослыл великолепным рассказчиком и отъявленным вруном. Его самые яркие истории расходились по окрестностям, как анекдоты и, наконец, были замечены литераторами.
Ещё при жизни барона несколько книг о его приключениях вышли в Германии и в Англии. Сам барон этому был совсем не рад и даже пытался судиться с авторами. Потому что в жизни и в быту слыл среди своих знакомых и земляков, как совершенно честный и правдивый человек! Чего совершенно лишался во время своих устных фантазий. Въезд в Петербург на волке, запряжённом в сани, конь, разрезанный пополам в Очакове, взбесившиеся шубы, вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя, полёт на луну на пушечном ядре и т. д. – все эти истории были услышаны и записаны не одним слушателем. Что подтверждает талант барона-фантазёра, как рассказчика.
Даже в России его истории были напечатаны ещё при жизни барона. В 1791 году под авторством Н. Осипова вышел вольный перевод рассказов Мюнхгаузена под очень удачным и точно характеризующим творчество барона заголовком "Не любо – не слушай, а врать не мешай".
Трудно пройти мимо юбилея такого замечательного человека. И не только потому, что мы все врать горазды. Кто-то только делает это ради красного словца, как юбиляр, а кто-то ради зелёных бумажек. Ну как не поговорить о наследниках барона в дни его юбилейных торжеств? Это было бы даже неприлично, право! Хотя эта тема ...сомнительная. Даже в известном и всеми любимом фильме барону (Олегу Янковскому) его законная жена (Инна Чурикова) об этом намекает:"...Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?"
Только давайте сразу договоримся, а что же такое – "враньё". Предположим, что это "заведомо ложная информация, выдаваемая за правду, имеющая определённые цели, приносящие лгуну разного рода выгоду". Поищем родственные варианты. Например, художественная литература. Почти полное попадание. Все писатели и поэты – отъявленные лгуны. Не будете же вы спорить, что никаких таких Анн Каренин, Раскольниковых, Остапов Бендеров, Евгениев Онегиных, Печориных, Василиев Тёркиных не было! Соврали нам уважаемые классики. Придумали всё до последней строчки. И, заметьте, не бескорыстно! Деньги, слава, привилегии, уважение, самоутверждение – каждый выбирает для себя. Достоевский так даже чаще всего из-за карточных долгов и брался за перо. Твардовский получил Сталинскую премию, дачу в Переделкино, почёт и уважение. Пушкин тоже всё время в долг жил и торговался с издателями за каждую строчку. При этом не отказывал себе в мирских искушениях. И уезжал в своё Михайловское от греха подальше, чтоб денег заработать.
А Мюнхгаузен зачем врал? Уважение у земляков заработать? Так они ж над ним потешались! При жизни барона доставали толпы приезжих зевак – посмотреть на барона-вруна! А деньги от издания его фантазий получали всякие Распе, Бюргеры, Линары, записавшие и издавшие его рассказы. Сомнительная выгода. Так что выходит: не был барон лгуном. Не попадает он под наше определение. И можем ли мы назвать вруном писателя Шаламова, писавшего свои "Колымские рассказы", заведомо зная, что за них он не только денег не получит, а только новый срок. И можем ли мы назвать ложью ответ булгаковского Га-Ноцри Понтию Пилату на его вопрос: "Ведь не было этого всего? Ведь не было?!" "Конечно, не было. Это всё тебе приснилось!" – ответил сжалившийся над стариком философ. И врём ли мы с выгодой, если успокаиваем безнадёжно больного, рассказываем сказки детям, пишем родителям, что "у меня всё хорошо", хотя застрелиться хочется. «Но я же сказал правду! – Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!»
Да, мы уже настолько привыкли ко лжи, что даже не обращаем на это никакого внимания. Даже наоборот. Мы слушали и понимали, что это сигнал: раз врут – значит это кому-нибудь нужно. Нам лгали про "Продовольственную программу" – мы засучивали рукава и копали огороды и дачные грядки. Нам врали: "Всем квартиры к 2000 году". Мы понимали это так, что теперь уже точно медлить нельзя и всячески старались купить участок для строительства себе своего дома самостоятельно. И, вспомните, именно самый лгущий журнальчик "Агитатор" все поголовно использовали не по назначению, в дачных клозетах.
Мы уже настолько привыкли ко лжи, что именно чужое враньё помогает принимать правильное решение. Ложь, нас окружающая, стала элементом естественного отбора. Те, кто поверил словам из репродукторов о том, что взрыв в Чернобыле – рядовая и неопасная авария – вымерли. А те, кто тут же собрался и уехал, а не остался загорать на пляжах реки Припять – выжили.
Столько мы с вами слышали о надёжности и безопасности тех или иных технических сооружений, что именно поэтому с особым подозрением теперь относимся к этому монстру в Швейцарии – коллайдеру?! А кто ж не станет бояться, если тонут "непотопляемые" Титаники, падают самые надёжные самолёты, тонут самые современные подлодки, взрывается самая надёжная в России шахта "Распадская", в Мексиканский залив хлещет нефть из скважины самой авторитетной английской нефтяной компании? И ведь врали нам совсем не глупые люди! "Мне сказали – умный человек. – Ну, мало ли что про человека болтают!"
А что уж говорить про враньё по телевизору? Особенно в рекламе. Это тема для особого разговора, но если посмотреть нашу рекламу и сделать некий срез, то впечатление об интересах соотечественников создастся довольно пошлое. Женщины думают только о гладкости собственной шкурки, о похудении и шоколаде. Мужчины – о бритье, мужской потенции, "Дошираке" и "Роллтоне". И все без исключения – о тарифах на сотовую связь. При этом все телезрители отлично понимают, что "отправьте SMS на этот короткий номер и вы..." – это просто прямое надувательство, но вот узнаю, что таким образом в России сотовые мошенники заработали только в этом году 40 миллионов долларов! Значит, кто-то верит?
«Ваше Высочество, ну не идите против своей совести. Я знаю, вы благородный человек и в душе тоже против Англии. – Да, в душе против. Да, она мне не нравится. Но я сижу и помалкиваю!»
А вот другая цифра. 78% россиян считают, что в декларациях высших чиновников представлена ничтожная часть их доходов, и только 2% оптимистов полагают, что они не врут ("Аргументы и факты" N 19. 2017). О чём мы говорим! Жили, живём и жить будем. Как-нибудь сами. Мы уже привыкли. Мы уже, наверное, без этого как-то не можем. Поэтому и любимый герой у нас тот самый Мюнхгаузен. И совсем не важно, летал он на Луну, или нет. Главное, что он никогда не врёт.
P. S. "Ну, вот и славно! И не надо так трагично, дорогой мой. Смотрите на это с присущим вам юмором... С юмором!... В конце концов, Галилей-то у нас тоже отрекался. – Поэтому я всегда больше любил Джордано Бруно..."
Сергей КАЩЕЕВ
~
Песни вычерпывающих людей
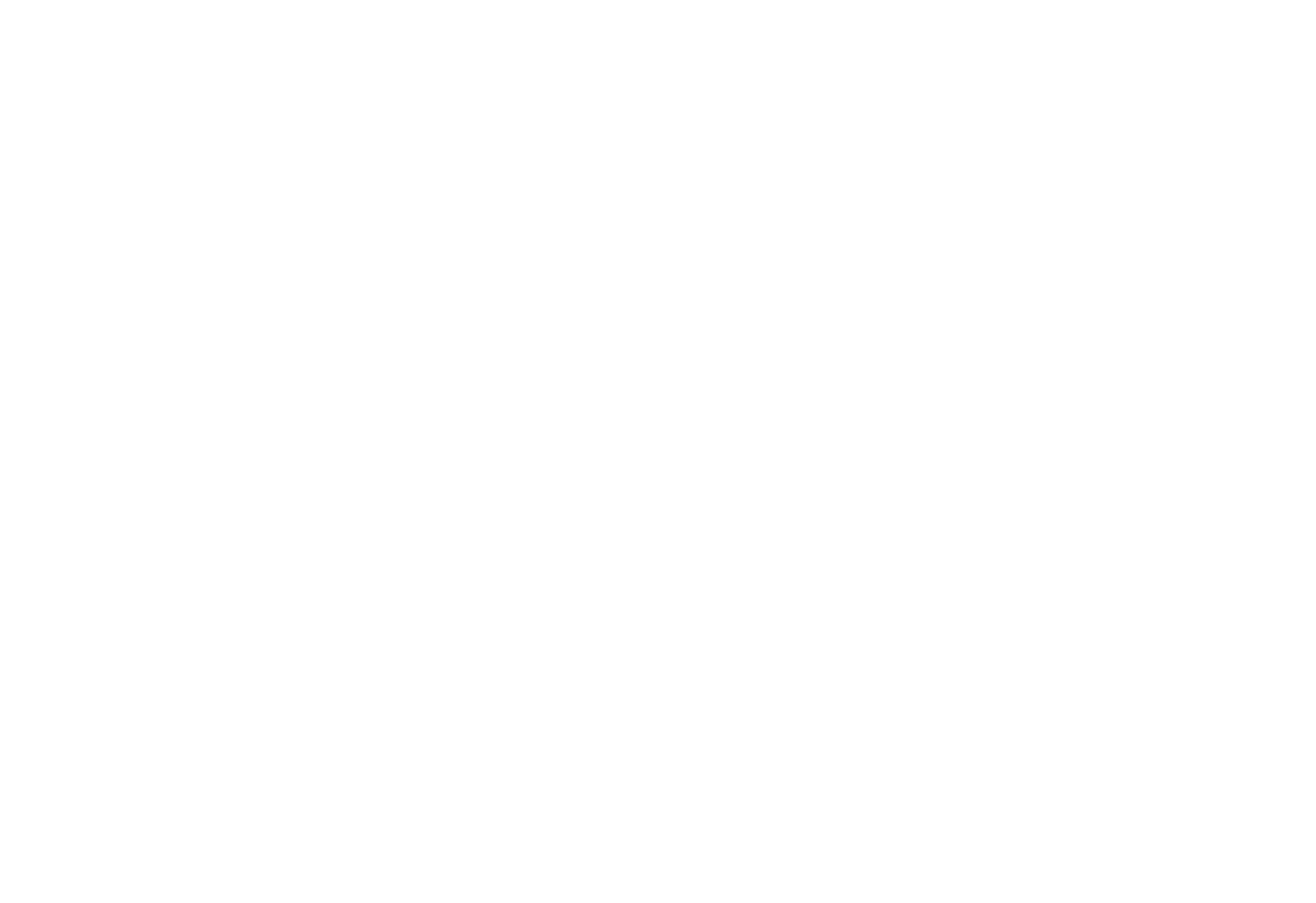
Сергей Кащеев
Когда заря собой озаряет полмира,
И стелется гарь от игр этих взрослых детей,
Ты скажешь друзьям: "Чу! Я слышу звуки чудной лиры".
Милый, это лишь я пою песнь вычерпывающих людей...
(Борис Гребенщиков)
«...Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеёшься над ними, считаешь пустяками, и всё же идёшь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клёны, берёзы, и всё смотрит на меня с любопытством и ждёт. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!
Надо идти, уже пора... Вот дерево засохло, но всё же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то всё же буду участвовать в жизни так или иначе...»
(А. Чехов «Три сестры»)
«Ах, не вините меня в том, что опоздал чуть-чуть...», – поёт в своей песне Александр Розенбаум, извиняясь перед Окуджавой и Высоцким. А Окуджава, в свою очередь, в своей песне извинялся перед Пушкиным: «А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем...». «Засохшие деревья» классиков участвуют в нашей жизни «так или иначе». Они своими вечными строками упрекают за нашу лень, безмятежность, жизненную бытовуху. Они напоминают о бренности. И всё же так хочется поговорить с ними! Так много хочется спросить!
Антон Павлович Чехов – писатель, совершенно не похожий на привычных нам русских классиков. В драматургии он вообще... неправильный. Он всё делал не так. И делал это не революционно, и не по-декадентски протестуя против устоев государства или общепринятых тогда норм театрального искусства, а, наоборот, – в высшей степени интеллигентно. При этом очень стесняясь своей «неполноценности». За него об этом говорит Тригорин в «Чайке»:
«...Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно. Но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... (Смеясь.) А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски всё будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева»...
Сколько же людей, пытающихся складывать слова в предложения, претендуя быть читаемыми, после чтения Чехова произносили с досадой про себя: «Да! У меня мило и талантливо. И так до гробовой доски будет мило и талантливо. Но пишу я хуже Чехова»!
И всё же так хотелось бы встретиться! Так было бы интересно узнать не из умозаключений критиков и литературоведов, а именно от него: почему же всё-таки он настаивал, что «Вишнёвый сад» – это «комедия»?! И почему собственноручно так же определил этим жанром свою «Чайку»? Ну, какие же это к лешему комедии?!! И, кстати, почему тогда пьеса «Дядя Ваня», созданная из рассказа «Леший», комедией не названа?
А почему, Антон Павлович, вы отдали свою ещё свежую «Чайку» в петербургский Александрийский театр, где она с треском провалилась, а не сразу в Московский Художественный, где «Чайка» взлетела даже на эмблему театра?!
А как вам вообще удавалось работать со Станиславским и Немировичем-Данченко, если вы от своей жены, актрисы Книппер-Чеховой, наверняка знали, что два мэтра-создателя так «любили» друг друга, что несколько лет общались через закулисный коридор только записочками?
А какие свои ранние рассказы вы выбрали бы для школьной программы, кроме «Хамелеона» и «Лошадиной фамилии», которые мы и так изучаем в школе?
А был ли у вас в жизни момент, когда после перечитки вами же написанного, вы, как Пушкин про себя когда-то, вскрикнули: «Ай да Чехов! Ай да сукин сын!»?
И, возвращаясь к первым вопросам, каково вам было после провала «Чайки»?
Где же вы силы-то взяли и веры, чтоб не послать подальше этот весь театр с его вешалками, интригами и лицедейством?
А знаете ли вы, Антон Павлович, что ваши пьесы, не имеющие по сути интриги, не имеющие захватывающего сюжета, мистики, драйва, неожиданных действий героев, непредсказуемых коллизий, то есть всего того, на чём держится сегодняшний театр, конкурирующий с индустрией кино, телевидения, шоу-бизнеса, – самые статистически популярные пьесы, как в России, так и на Западе?!! Вы, Антон Павлович, сумели в этом смысле превзойти даже Шекспира.
Вы счастливый человек, Антон Павлович! Вы вычерпывали доброту из душ окружающих вас людей, не разделяя их на плохих и хороших, и заполняли этим содержимым тела придуманных вами героев, которые тоже в ваших пьесах отказывались делиться на плохих и хороших. Потому-то они и живы до сих пор. Потому что вы сто с небольшим лет назад уже определили для себя, что такое счастье.
А нам ещё искать и искать...
Вершинин. ...Давайте помечтаем... например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести-триста.
Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется всё та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «Ах, тяжко жить!» – и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.
Вершинин (подумав). Как вам сказать? Мне кажется, всё на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, наконец, тысячу лет, – дело не в сроке – настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для неё живём теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим её – и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье...
(А. Чехов «Три сестры»)
И стелется гарь от игр этих взрослых детей,
Ты скажешь друзьям: "Чу! Я слышу звуки чудной лиры".
Милый, это лишь я пою песнь вычерпывающих людей...
(Борис Гребенщиков)
«...Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеёшься над ними, считаешь пустяками, и всё же идёшь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клёны, берёзы, и всё смотрит на меня с любопытством и ждёт. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!
Надо идти, уже пора... Вот дерево засохло, но всё же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то всё же буду участвовать в жизни так или иначе...»
(А. Чехов «Три сестры»)
«Ах, не вините меня в том, что опоздал чуть-чуть...», – поёт в своей песне Александр Розенбаум, извиняясь перед Окуджавой и Высоцким. А Окуджава, в свою очередь, в своей песне извинялся перед Пушкиным: «А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем...». «Засохшие деревья» классиков участвуют в нашей жизни «так или иначе». Они своими вечными строками упрекают за нашу лень, безмятежность, жизненную бытовуху. Они напоминают о бренности. И всё же так хочется поговорить с ними! Так много хочется спросить!
Антон Павлович Чехов – писатель, совершенно не похожий на привычных нам русских классиков. В драматургии он вообще... неправильный. Он всё делал не так. И делал это не революционно, и не по-декадентски протестуя против устоев государства или общепринятых тогда норм театрального искусства, а, наоборот, – в высшей степени интеллигентно. При этом очень стесняясь своей «неполноценности». За него об этом говорит Тригорин в «Чайке»:
«...Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно. Но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... (Смеясь.) А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски всё будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева»...
Сколько же людей, пытающихся складывать слова в предложения, претендуя быть читаемыми, после чтения Чехова произносили с досадой про себя: «Да! У меня мило и талантливо. И так до гробовой доски будет мило и талантливо. Но пишу я хуже Чехова»!
И всё же так хотелось бы встретиться! Так было бы интересно узнать не из умозаключений критиков и литературоведов, а именно от него: почему же всё-таки он настаивал, что «Вишнёвый сад» – это «комедия»?! И почему собственноручно так же определил этим жанром свою «Чайку»? Ну, какие же это к лешему комедии?!! И, кстати, почему тогда пьеса «Дядя Ваня», созданная из рассказа «Леший», комедией не названа?
А почему, Антон Павлович, вы отдали свою ещё свежую «Чайку» в петербургский Александрийский театр, где она с треском провалилась, а не сразу в Московский Художественный, где «Чайка» взлетела даже на эмблему театра?!
А как вам вообще удавалось работать со Станиславским и Немировичем-Данченко, если вы от своей жены, актрисы Книппер-Чеховой, наверняка знали, что два мэтра-создателя так «любили» друг друга, что несколько лет общались через закулисный коридор только записочками?
А какие свои ранние рассказы вы выбрали бы для школьной программы, кроме «Хамелеона» и «Лошадиной фамилии», которые мы и так изучаем в школе?
А был ли у вас в жизни момент, когда после перечитки вами же написанного, вы, как Пушкин про себя когда-то, вскрикнули: «Ай да Чехов! Ай да сукин сын!»?
И, возвращаясь к первым вопросам, каково вам было после провала «Чайки»?
Где же вы силы-то взяли и веры, чтоб не послать подальше этот весь театр с его вешалками, интригами и лицедейством?
А знаете ли вы, Антон Павлович, что ваши пьесы, не имеющие по сути интриги, не имеющие захватывающего сюжета, мистики, драйва, неожиданных действий героев, непредсказуемых коллизий, то есть всего того, на чём держится сегодняшний театр, конкурирующий с индустрией кино, телевидения, шоу-бизнеса, – самые статистически популярные пьесы, как в России, так и на Западе?!! Вы, Антон Павлович, сумели в этом смысле превзойти даже Шекспира.
Вы счастливый человек, Антон Павлович! Вы вычерпывали доброту из душ окружающих вас людей, не разделяя их на плохих и хороших, и заполняли этим содержимым тела придуманных вами героев, которые тоже в ваших пьесах отказывались делиться на плохих и хороших. Потому-то они и живы до сих пор. Потому что вы сто с небольшим лет назад уже определили для себя, что такое счастье.
А нам ещё искать и искать...
Вершинин. ...Давайте помечтаем... например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести-триста.
Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется всё та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «Ах, тяжко жить!» – и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.
Вершинин (подумав). Как вам сказать? Мне кажется, всё на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, наконец, тысячу лет, – дело не в сроке – настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для неё живём теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим её – и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье...
(А. Чехов «Три сестры»)
Сергей КАЩЕЕВ
~
Что там, под обложкой?
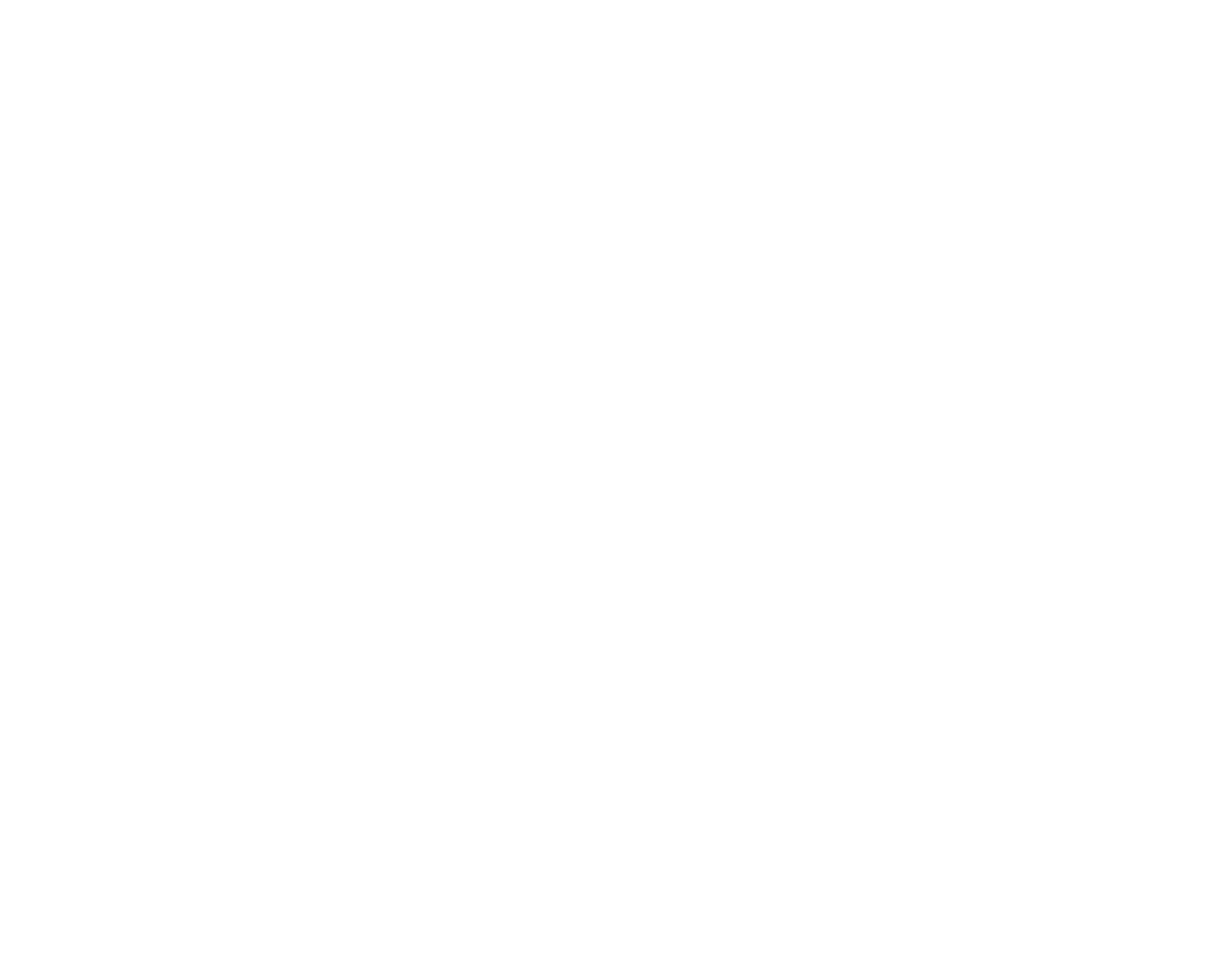
Сергей Кащеев
Книги – это «консервы», которые когда-то заготовил впрок для будущих поколений их автор. Внёс в содержимое фабулу основного ингредиента, добавил острых приправ интриги, ароматных трав подробностей эпохи, соль морали, уксус сатиры, перчик иронии. Как и консервы, приготовленные вроде бы по всем известной технологии и из одних и тех же ингредиентов, книги тоже получаются разные на вкус. Абсолютно одинаковый язык, стиль и сюжет продукции «консервных» заводов, выпускающих потоком детективы и фантастику, любовные истории и истории любви, бандитские романы и романы бандитов, отличаются от индивидуализма домашних заготовок пресностью и безвкусием. Но потребляются населением в гораздо больших количествах. Как гамбургеры или привокзальные пирожки. Съел и пошёл. Для некоторых разборчивых – с последующей изжогой.
Если разобраться, то в мировой литературе известно всего 16 сюжетных линий, которые можно узнать среди миллионов книг. Среди них наиболее известные: «история любви», «история карьеры», «история карьеры и падения», «расследование преступления», «история мести», «жизнеописание исторических событий через призму жизни придуманного героя» и т. д. Огурцы тоже бывают квашеные, маринованные, корнюшоны, резаные, цельные, в бочках, в пол-литровых баночках и т. д. Содержание вроде бы одно – вкус разный.
Книги не умеют себя читать. Внутри обложки тлеет жизнь, дожидаясь читателя. А вот когда её снимут с полки и откроют – содержимое начинает бродить на дрожжах сюжета и, как тесто, вырывается из своего объёма, заполняя всё видимое пространство. Наполняя до краёв и самого читателя. Весь его мир. Хотя бы на время чтения. Недочитанная книга – это резко прерванная жизнь её героев. Недожитая. Недосказанная. Прерванная, как самый важный телефонный разговор из-за отсутствия денег на счёте, как бешеный клёв на рыбалке, остановленный появлением рыбинспектора, как только что начавшийся вкуснейший обед – срочным вызовом на работу.
Для самих книг их собственное содержимое – большая тайна. Они могут догадываться о себе только по глазам читателя. По его реакции. Библиотечные книги могут ещё подумать, что их достоинство – это частое их открывание разными людьми. Но тогда, как и люди, книги могут ошибаться в себе самих. Потому что могут быть востребованными справочниками, пустым боевиком с красивой обложкой или любовным романом, написанным фантазирующей старой девой. А может быть почти нетронутым произведением Набокова или Платонова, сборником стихов Левитанского или Мандельштама.
Наверное, всё же, каждому хоть немного нужно знать, про что его книга.
Если разобраться, то в мировой литературе известно всего 16 сюжетных линий, которые можно узнать среди миллионов книг. Среди них наиболее известные: «история любви», «история карьеры», «история карьеры и падения», «расследование преступления», «история мести», «жизнеописание исторических событий через призму жизни придуманного героя» и т. д. Огурцы тоже бывают квашеные, маринованные, корнюшоны, резаные, цельные, в бочках, в пол-литровых баночках и т. д. Содержание вроде бы одно – вкус разный.
Книги не умеют себя читать. Внутри обложки тлеет жизнь, дожидаясь читателя. А вот когда её снимут с полки и откроют – содержимое начинает бродить на дрожжах сюжета и, как тесто, вырывается из своего объёма, заполняя всё видимое пространство. Наполняя до краёв и самого читателя. Весь его мир. Хотя бы на время чтения. Недочитанная книга – это резко прерванная жизнь её героев. Недожитая. Недосказанная. Прерванная, как самый важный телефонный разговор из-за отсутствия денег на счёте, как бешеный клёв на рыбалке, остановленный появлением рыбинспектора, как только что начавшийся вкуснейший обед – срочным вызовом на работу.
Для самих книг их собственное содержимое – большая тайна. Они могут догадываться о себе только по глазам читателя. По его реакции. Библиотечные книги могут ещё подумать, что их достоинство – это частое их открывание разными людьми. Но тогда, как и люди, книги могут ошибаться в себе самих. Потому что могут быть востребованными справочниками, пустым боевиком с красивой обложкой или любовным романом, написанным фантазирующей старой девой. А может быть почти нетронутым произведением Набокова или Платонова, сборником стихов Левитанского или Мандельштама.
Наверное, всё же, каждому хоть немного нужно знать, про что его книга.
Сергей КАЩЕЕВ
~
Я не очень понимаю, зачем я вспомнил эту историю. Просто мне грустно. Я уезжаю со своей малой родины. Навсегда…
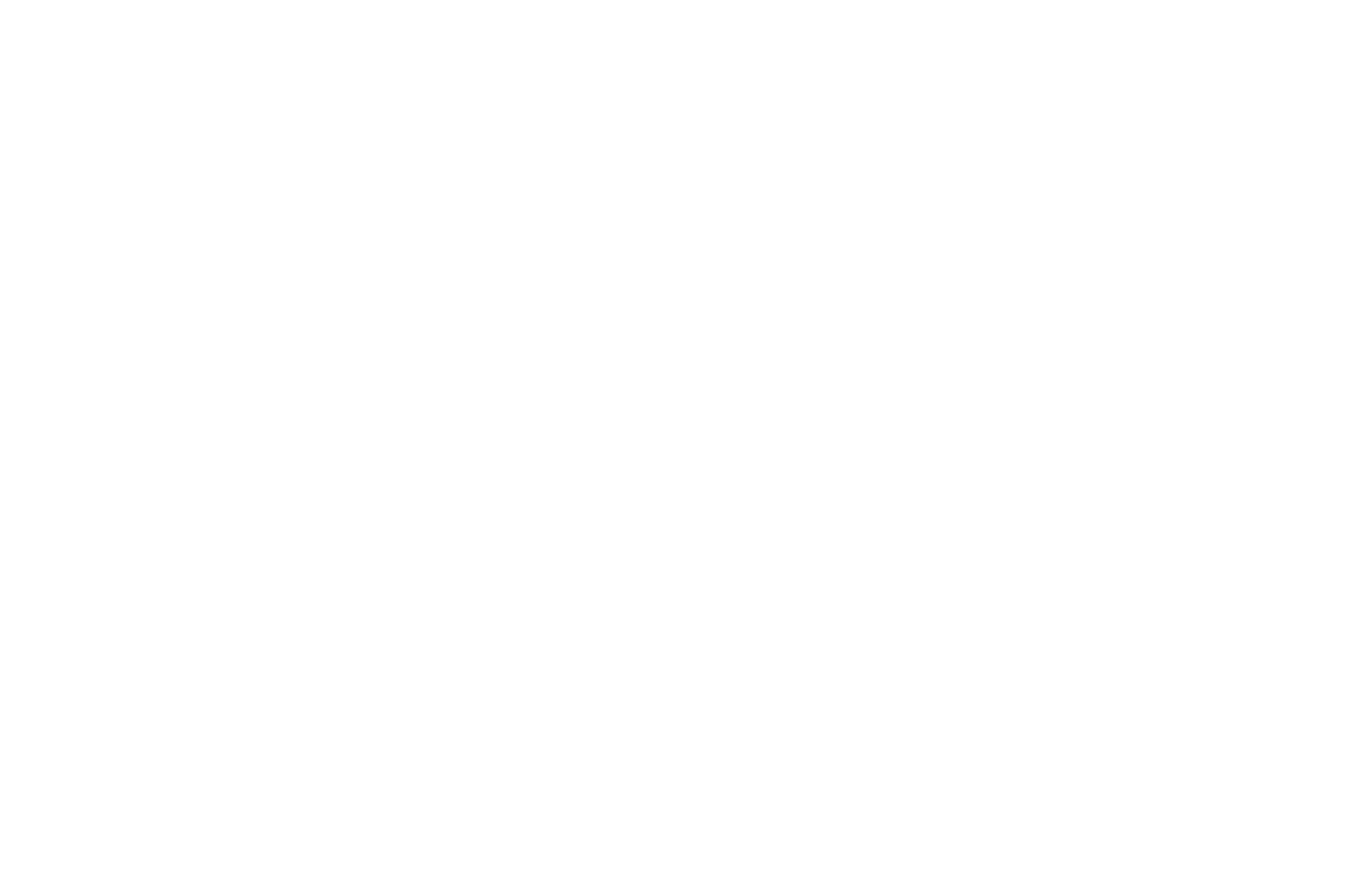
Сергей
Кащеев
Кащеев
…Как я покупал лошадь
Этот казус случился со мной, когда я работал в геологоразведке на Южном Урале. Месяц буришь землю с бригадой таких же бедолаг, месяц отдыхаешь. Лес, горы, до ближайшего жилья – 60 км. До базового геологического штаба – 40 км. По радиусу от неё пять буровых вышек. Одна из них наша.
Как-то так получилось, что уже на третий день нашей смены выяснилось, что прислали нам бракованные коронки для кернового бурения. Весь ящик оказался не для гранита, а вообще для почвы и глины. Связались по рации со штабом, говорят, выезжайте сами на УАЗике, все машины на объектах. Поехали втроём, всё равно бурить нечем, вышка встала. Приехали, загрузили сто килограмм алмазных коронок – и назад. УАЗик «крякнулся» на обратном пути. В 20 км от лагеря. Причём сломался он капитально. Водитель Коля даже капот открывать не стал. По звуку и треску определил скоропостижную смерть и снял фуражку.
Нести на себе железо было нереально. Рации тогда были только стационарные. Всё равно идти в лагерь, связываться со штабом, но дадут ли ещё оттуда машину – это ещё вопрос. А каждый день простоя – ноль рублей в зарплате.
Этот казус случился со мной, когда я работал в геологоразведке на Южном Урале. Месяц буришь землю с бригадой таких же бедолаг, месяц отдыхаешь. Лес, горы, до ближайшего жилья – 60 км. До базового геологического штаба – 40 км. По радиусу от неё пять буровых вышек. Одна из них наша.
Как-то так получилось, что уже на третий день нашей смены выяснилось, что прислали нам бракованные коронки для кернового бурения. Весь ящик оказался не для гранита, а вообще для почвы и глины. Связались по рации со штабом, говорят, выезжайте сами на УАЗике, все машины на объектах. Поехали втроём, всё равно бурить нечем, вышка встала. Приехали, загрузили сто килограмм алмазных коронок – и назад. УАЗик «крякнулся» на обратном пути. В 20 км от лагеря. Причём сломался он капитально. Водитель Коля даже капот открывать не стал. По звуку и треску определил скоропостижную смерть и снял фуражку.
Нести на себе железо было нереально. Рации тогда были только стационарные. Всё равно идти в лагерь, связываться со штабом, но дадут ли ещё оттуда машину – это ещё вопрос. А каждый день простоя – ноль рублей в зарплате.
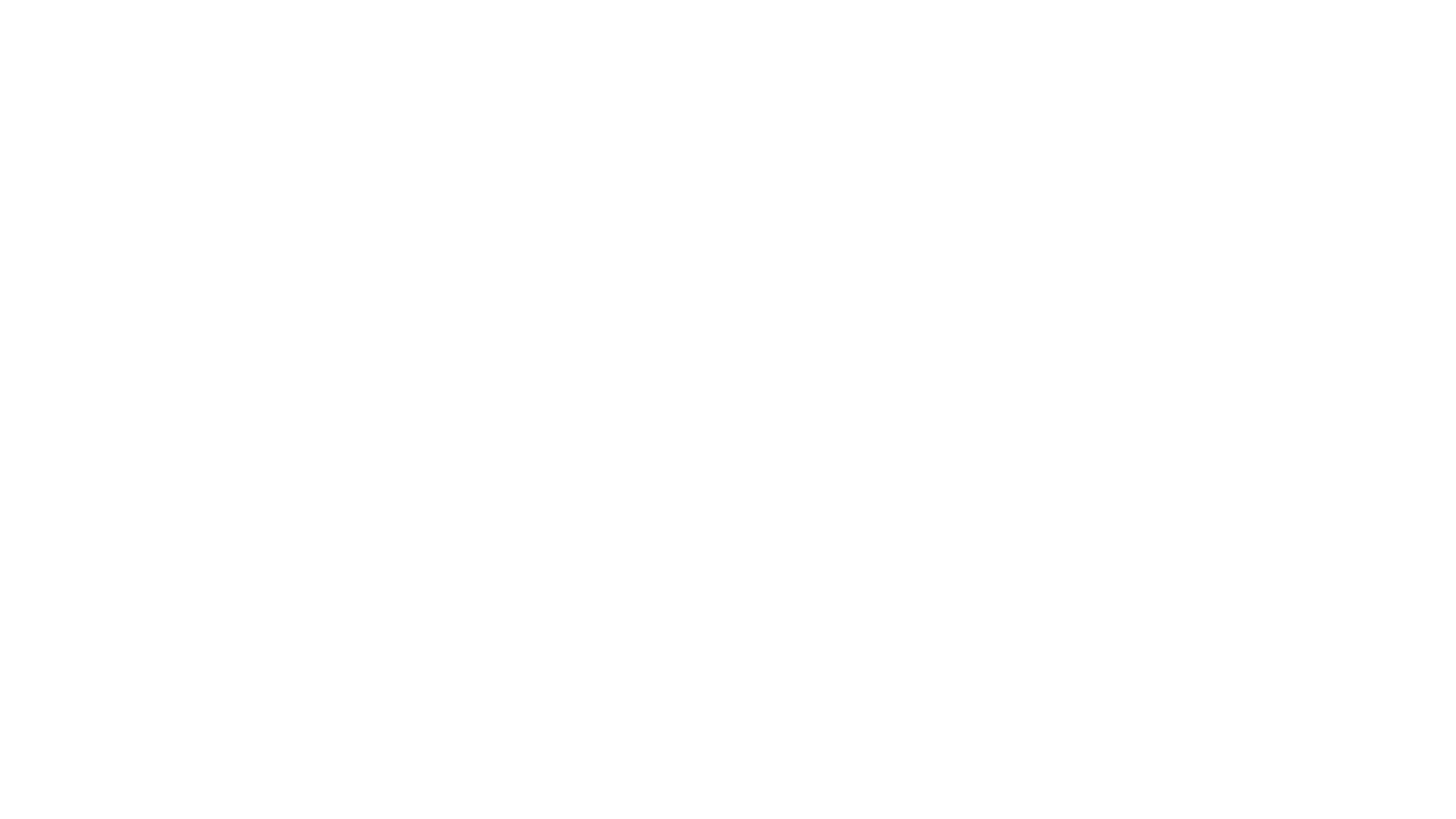
На карте вдруг рассмотрели «отдельно стоящий домик» всего-то километрах в двух от сломавшегося УАЗика. Послали на разведку меня, как специалиста по работе с аборигенами. Уже на подходе к единственному домику заброшенной деревни увидел хорошие приметы: из трубы шёл дым, во дворе стояла добротная телега, в конюшне заржал конь. По двору ходил совершенно одинокий петух и, видимо, от одиночества бочком и незаметно пытался подкрасться к группе флиртующих с ним бдительных ворон.
Наконец вышел хозяин. Лицо чёрное от загара и мятое, задубелое, как кирзовый сапог. На ногах – обрезанные по самую пятку сапоги невероятного размера, драгунское трико времён войны 1812 года и засаленный пиджак с рыболовными крючками на отворотах воротника, оставшийся хозяину наверняка со своей свадьбы. Лицо выражало гордый интерес.
Разговорились. Начали, как следует, с погоды, обсудили безобразные дороги прилегающей местности, дальность магазина, виды на урожай грибов. Наконец я рассказал о ситуации, позёвывая, чтоб не очень-то выказывать интерес, кивнул на телегу и поинтересовался о стоимости аренды гужевого транспорта.
– А вес груза какой? – опасливо спросил дед.
Я ответил, что килограмм 50-60. Дед посочувствовал и, закатив глаза, углубился в математические вычисления.
– 20 рублей! – категорично объявил он и постарался сделать вид, что даже не интересуется моей реакцией.
Я, разумеется, выразил оглушительное недоумение нереальностью цены, и после торгов мы с ним сошлись на 17-ти.
Когда он вывел к дому своего коня, у меня вытянулось лицо. Лошадь была какой-то непропорциональной длины и худобы. В зубы можно было не смотреть, возраст угадывался с первого взгляда.
– Домчит, как на крыльях! – успокоил дедуля и попросил деньги вперёд. Сам он идти категорически отказался, и через каких-то пару часов непрерывных понуканий я промчался два километра до УАЗика. Загрузились, оставили автомобиль на дороге и опасливо пошли рядом с телегой.
– А чем его кормить-то будем? – озадачился водитель Коля. – Они ведь овёс едят! Где мы его возьмём?!
– У нас гречка есть! – предположил геолог Григорий, всю жизнь проработавший в городе в институте, перед пенсией решивший набрать полевого стажа.
– Трава вокруг зелёная! Они траву едят! – поразил я своих приятелей деревенскими знаниями.
«Дирижабль», как мы обозвали безымянного коня за его пропорции, перебирал ноги задумчиво и удивлённо. К вечеру, когда нам до базы оставалось ещё километров десять, наш верный конь остановился, упал и испустил дух. Натурально. После попыток сделать ему искусственное дыхание, массаж сердца, громкие крики в уши, стало ясно, что мы попали. После короткой нецензурной панихиды решили переночевать и утром разделиться. Мне было назначено идти к мошеннику-деду (я у него ещё и паспорт оставил), а Гриша с Колей двинут в наш лагерь.
Встали засветло, и уже вместе с восходом я был у деда. Тот, увидев меня, как мне показалось, с тайной надеждой спросил:
– Где конь?
– Умер твой верный одногодка! – мстительно успокоил его я.
– Загнали Борьку!!! – то ли обрадовался, то ли возмутился дед.
– Если б мы его «гнали», то довезли бы, может, груз до лагеря. А он тут рядом, возле брода сдох. И эти десять километров часа четыре плёлся! Давай, дед, паспорт. Телегу мы тебе притащим, когда машина с базы придёт.
– Я вам целого коня живого и здорового дал? Дал! Где он? Нету! Давай плати, как за живого!
– Дед! Если б он вчера вечером не сдох, тебе бы сегодня утром могилу пришлось бы копать своему длинномеру! Он у тебя уже заупокойные молитвы сам себе читал! А так мы его в лес оттащим, лисы и волки сожрут.
– Какой конь был! – запричитал хитрюга-дед.
Я деликатно промолчал.
– Будённовской породы! – осмелел нахал.
– Наверное, самого Будённого живьём видел, – не выдержал я.
Он у меня пятнадцать лет жил живой и здоровый, и ни разу не сдох! 300 рублей! – сказал как отрезал старик.
Я натурально упал на пятую точку.
– Да ты что, дед!!! На такие деньги я тебе арабского скакуна приведу! На эти деньги шесть новых велосипедов можно купить! На эти деньги натуральный дирижабль можно купить! – заголосил я.
После получаса переговоров сошлись на ста рублях, мою штормовку и ботинки в придачу.
Довольный дед пошуршал полученными от меня купюрами, и, поглядев, как я разуваюсь, предложил:
– А может, петуха моего купишь? – и кивнул на своего одинокого извращенца.
– А он что, тоже вот-вот должен шпоры отбросить? – предположил я.
– Не. Он у меня особенный. Всех кур до смерти затаптывает! – гордо заявил дед.
– Смотри, сам будь с ним осторожен! – посоветовал я деду, мысленно пожелав обратного, и босяком захромал по дороге, стараясь не наступать на сосновые шишки.
Наконец вышел хозяин. Лицо чёрное от загара и мятое, задубелое, как кирзовый сапог. На ногах – обрезанные по самую пятку сапоги невероятного размера, драгунское трико времён войны 1812 года и засаленный пиджак с рыболовными крючками на отворотах воротника, оставшийся хозяину наверняка со своей свадьбы. Лицо выражало гордый интерес.
Разговорились. Начали, как следует, с погоды, обсудили безобразные дороги прилегающей местности, дальность магазина, виды на урожай грибов. Наконец я рассказал о ситуации, позёвывая, чтоб не очень-то выказывать интерес, кивнул на телегу и поинтересовался о стоимости аренды гужевого транспорта.
– А вес груза какой? – опасливо спросил дед.
Я ответил, что килограмм 50-60. Дед посочувствовал и, закатив глаза, углубился в математические вычисления.
– 20 рублей! – категорично объявил он и постарался сделать вид, что даже не интересуется моей реакцией.
Я, разумеется, выразил оглушительное недоумение нереальностью цены, и после торгов мы с ним сошлись на 17-ти.
Когда он вывел к дому своего коня, у меня вытянулось лицо. Лошадь была какой-то непропорциональной длины и худобы. В зубы можно было не смотреть, возраст угадывался с первого взгляда.
– Домчит, как на крыльях! – успокоил дедуля и попросил деньги вперёд. Сам он идти категорически отказался, и через каких-то пару часов непрерывных понуканий я промчался два километра до УАЗика. Загрузились, оставили автомобиль на дороге и опасливо пошли рядом с телегой.
– А чем его кормить-то будем? – озадачился водитель Коля. – Они ведь овёс едят! Где мы его возьмём?!
– У нас гречка есть! – предположил геолог Григорий, всю жизнь проработавший в городе в институте, перед пенсией решивший набрать полевого стажа.
– Трава вокруг зелёная! Они траву едят! – поразил я своих приятелей деревенскими знаниями.
«Дирижабль», как мы обозвали безымянного коня за его пропорции, перебирал ноги задумчиво и удивлённо. К вечеру, когда нам до базы оставалось ещё километров десять, наш верный конь остановился, упал и испустил дух. Натурально. После попыток сделать ему искусственное дыхание, массаж сердца, громкие крики в уши, стало ясно, что мы попали. После короткой нецензурной панихиды решили переночевать и утром разделиться. Мне было назначено идти к мошеннику-деду (я у него ещё и паспорт оставил), а Гриша с Колей двинут в наш лагерь.
Встали засветло, и уже вместе с восходом я был у деда. Тот, увидев меня, как мне показалось, с тайной надеждой спросил:
– Где конь?
– Умер твой верный одногодка! – мстительно успокоил его я.
– Загнали Борьку!!! – то ли обрадовался, то ли возмутился дед.
– Если б мы его «гнали», то довезли бы, может, груз до лагеря. А он тут рядом, возле брода сдох. И эти десять километров часа четыре плёлся! Давай, дед, паспорт. Телегу мы тебе притащим, когда машина с базы придёт.
– Я вам целого коня живого и здорового дал? Дал! Где он? Нету! Давай плати, как за живого!
– Дед! Если б он вчера вечером не сдох, тебе бы сегодня утром могилу пришлось бы копать своему длинномеру! Он у тебя уже заупокойные молитвы сам себе читал! А так мы его в лес оттащим, лисы и волки сожрут.
– Какой конь был! – запричитал хитрюга-дед.
Я деликатно промолчал.
– Будённовской породы! – осмелел нахал.
– Наверное, самого Будённого живьём видел, – не выдержал я.
Он у меня пятнадцать лет жил живой и здоровый, и ни разу не сдох! 300 рублей! – сказал как отрезал старик.
Я натурально упал на пятую точку.
– Да ты что, дед!!! На такие деньги я тебе арабского скакуна приведу! На эти деньги шесть новых велосипедов можно купить! На эти деньги натуральный дирижабль можно купить! – заголосил я.
После получаса переговоров сошлись на ста рублях, мою штормовку и ботинки в придачу.
Довольный дед пошуршал полученными от меня купюрами, и, поглядев, как я разуваюсь, предложил:
– А может, петуха моего купишь? – и кивнул на своего одинокого извращенца.
– А он что, тоже вот-вот должен шпоры отбросить? – предположил я.
– Не. Он у меня особенный. Всех кур до смерти затаптывает! – гордо заявил дед.
– Смотри, сам будь с ним осторожен! – посоветовал я деду, мысленно пожелав обратного, и босяком захромал по дороге, стараясь не наступать на сосновые шишки.
Сергей КАЩЕЕВ
~
Продаётся дом
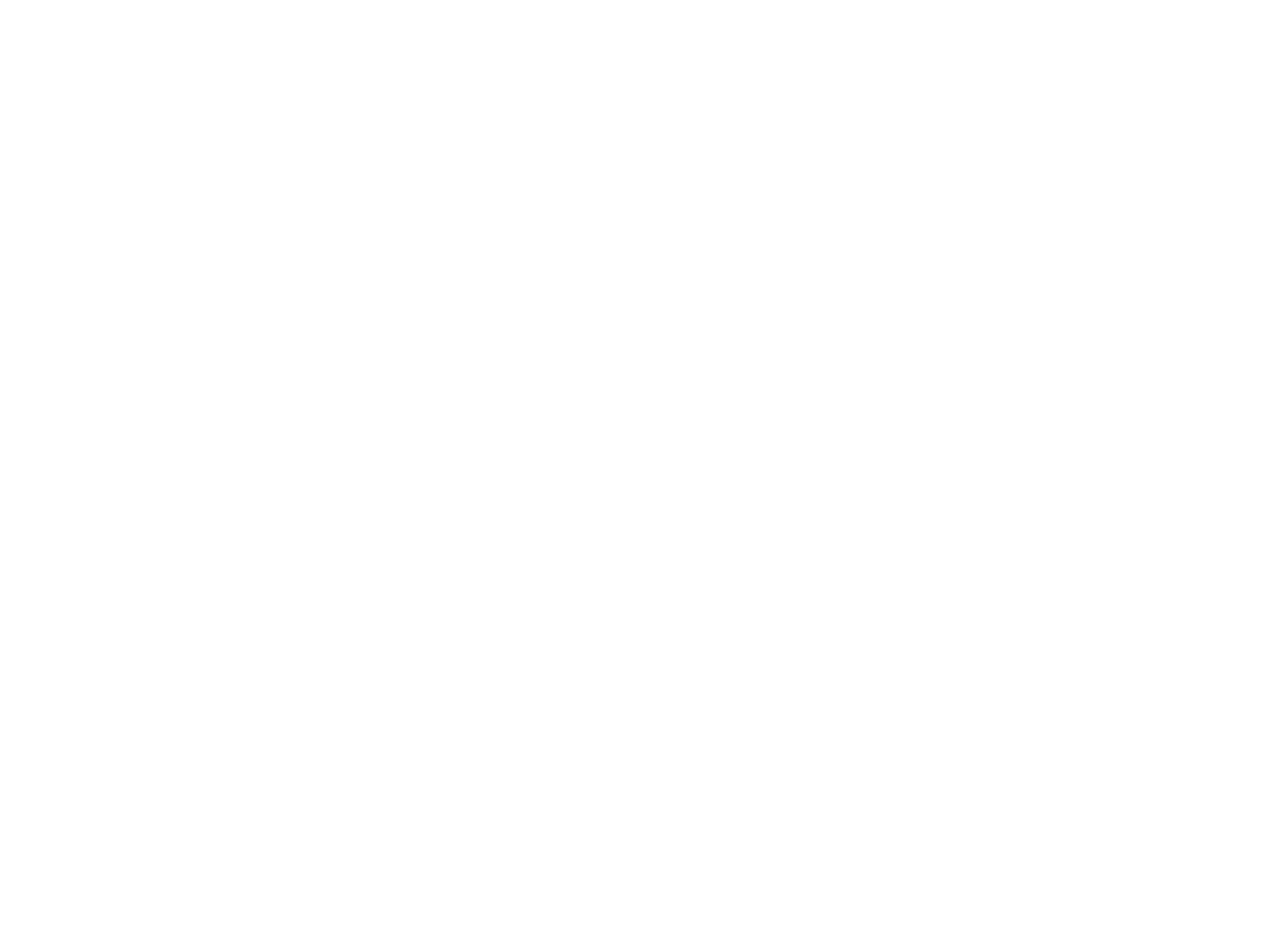
Редкими наездами в посёлок, затерянный в горах, я не раз пыталась попасть в родной дом. Новые хозяева дальше двора заходить не позволяли, видимо, стеснялись беспорядка, а может просто не доверяли незнакомому человеку. Но даже эта пара минут и несколько шагов по двору моего детства обостряли чувства так, что дней десять я не могла отойти от нахлынувших воспоминаний. Всё та же деревянная лестница так же упирается в глухую стену дома… Нижняя ступенька – металлическая, об неё обычно мы чистили обувь, потому что тротуара и дороги в пору моего детства на нашей непролазной от грязи улице Пролетарской не было. А на верхних ступеньках лестницы, сжавшись в комок от утренней прохлады, я любила греться в первых лучах солнца. Утром в нашем Предгорье, даже летом, вплоть до обеда, воздух оставался прохладно колючим. Дверь на летней кухне, построенной отцом из турлука, та же. Да что дверь? Обычные листы картона, прибитые когда-то для утепления двери – те же! После покраски пола я оставила на картоне коричневые разводы, очищая кисть. «Наследила», – так выразилась недовольная моим художеством мама.
Давно уже нет в живых моих родителей, ушла из жизни сестра, с которой мы с малых лет хозяйничали по дому и двору. Родители были вечно заняты домашним хозяйством и огородами. До их возвращения с работы мы старались устранить последствия безудержных детских забав и выполнить все поручения по дому, что удавалось не всегда. На этот раз меня встретил обломок ручки от зонтика, запиравший снаружи слуховое окно. Чудом уцелел он с тех пор, когда мы пытались пилотировать с крыши дома под куполом зонта. Ни разу на моей памяти этот старинный чёрный зонт с ручкой из сандалового дерева не использовался домочадцами по прямому назначению. До сих пор мучаюсь вопросом о том, откуда столь изящная вещь появилась в нашей семье, и ретуширую по утрам шрам над правой бровью, оставшийся после «полёта» с крыши. Купол зонта отделился и воспарил, а я рухнула в куст сирени с ручкой-тростью.
Милых примет прошлого, открывавшихся мне всякий раз в редкие минуты свидания с двором и домом, хватало, чтобы восстановить в душе равновесие. «Пока стоит на земле дом моего детства, я не чувствую своего возраста. Здесь мое место силы», – убеждала я себя, возвращаясь обновлённой из однодневных редких поездок в родные края, как из продолжительного отпуска.
Наш постаревший, вросший в землю дом под железной крышей, обитый новыми хозяевами пластиковыми панелями, приходил ко мне в снах только в прежнем своём виде. С просторными, почти пустыми комнатами, по которым мы катались по кругу на велосипеде, с настежь распахнутым в старый фруктовый сад окном. Через него детьми мы частенько выпрыгивали, чтобы сократить путь до дощатого туалета или выбраться со двора на улицу незамеченными. С тех пор одна из створок окна так и осталась скособоченной. На давильном прессе, от которого остался теперь только ржавый металлический штырь, мы катали друг друга, как на карусели. Видно, крепко вогнали его в землю, раз новые хозяева до сих пор не могут извлечь это опасное препятствие.
Если снился дом, я знала, что сон – вещий. Содержание сна запомнить не удавалось, но послевкусие сохранялось. Поразительно, но в течение ближайшей пары дней я наяву испытывала, в точности до мельчайших нюансов, те же чувства, что и во сне. Как будто мой старый дом заранее подготавливал меня к событиям, в том числе и неприятным. Эти «подсказки» со временем стал учитывать и мой муж, не верящий в вещие сны.
Городская квартира, в которой много лет проживает моя семья, ни разу за мою долгую жизнь почему-то так мне и не приснилась. Будто это не очаг, а всего лишь объект недвижимости, о котором вспоминаешь, когда приходит время платить налог. Со старым же отчим домом пуповина с годами только крепчала. А ведь утром, после выпускного вечера, полвека назад, я уходила из него с твёрдым намерением никогда больше сюда не возвращаться. Родительскую семью нельзя было назвать дружной и счастливой. Но дом меня не отпускал.
Нынешним летом, позвонила подруга детства и между прочим сообщила: «Твою родину выставили на продажу». Хотя умом я давно понимала, что дом не мой, а чужой, меня охватила паника. Чтобы как-то отделаться от нахлынувшей тревоги, уговорила супруга съездить в ближайший выходной в Предгорье.
На калитке была прибита табличка с номером сотового телефона. Нынче не принято писать «Продается», достаточно номера для связи. Человек, запустивший меня в дом, оказался квартирантом. Судя по его репликам, скорая продажа дома была ему невыгодна. Жилец заявил, что подвал под домом непутёвый, а большая комната вообще непригодна для житья. С трудом сдержала себя, чтобы не обнаружить, что дом этот мне не чужой. О каждом его уголке я могла бы рассказать этому критику множество бесценных подробностей. Например, почему в самой большой комнате пол цементный. Да потому, что каждую осень вся она заполнялась корзинами с виноградом. По вечерам всей семьёй вместе с соседями, которые приходили на помощь, мы обрывали с виноградных гроздей «бубочки» на вино. Работа эта занимала месяца полтора, случалось, что под корзинами образовывались лужицы виноградного сусла, и на умопомрачительный запах «изабеллы» слеталось множество пчёл и ос. Однажды оса укусила меня за язык, и несколько дней я не ходила в школу, потому что толком не могла говорить. Даже теперь, спустя столько лет, окраска пола неровная: от светло-серой до темно-фиолетовой. В один из таких вечеров вместе с моей подругой, устав от однообразного занятия, мы сочинили поэму, героями которой стали жители нашей улицы.
Наша Лида так красива
У неё фигурка – сила
Носик длинный не беда
Словом, девка – хоть куда!
Рассказ о внучке, повторяемый ежедневно соседкой бабой Леной Григорянц, переправленный нами в незамысловатое четверостишье, по сей день остаётся в памяти моих сверстников, когда мы вспоминаем обитателей нашего кутка.
Не менее колоритный герой улицы и нашей поэмы – дядя Толя по кличке «Мустафа», который большую часть жизни провел в тюрьме.
Вот остановка «Стадион»
Двери настежь, вылазьте вон!
В автобусе том прикатил Мустафа,
А с ним его новая жена.
Красотка одета по-модному очень,
Гофре разошлась…
Но кофточка!
Впрочем, рассказывать дальше не станем,
Так как вы её видели сами…
Ни одна встреча с выпускниками нашей школы не обходится без цитирования строк из этой поэмы. Что называется, она ушла в народ. Несмотря на юмористический склад поэмы, все её герои были горды безмерно тем, что удостоились внимания авторов. Свои первые трудовые я заработала вместе с подругой в восьмидесятых, выступая с этой поэмой перед повзрослевшими одноклассниками «нашей Лиды». Три рубля за выход были для нас неслыханным богатством. На первый гонорар в четвёртом классе я купила себе вьетнамские кеды для уроков физкультуры, которые тогда только входили в моду.
«Именно в этом углу самой прохладной в доме комнаты с цементным полом полвека назад торчали наши белобрысые макушки из-за огромных корзин с виноградом, когда мы сочиняли поэму», – отметила я, попав наконец-то в сам дом под видом покупательницы. А спустя годы я с удивлением узнала, что Анатолий Демкин – «Мустафа» штурмовал с десантом Цезаря Куникова «Малую землю» в Новороссийске. До сих пор пытаюсь соединить в своём сознании эти два образа и корю себя за детское нелюбопытство.
– Сколько просят хозяева, – скрывая дрожь в голосе, спросила я у неряшливо одетого, давно не бритого парня, которого заметно тяготила роль посредника.
– Два с половиной миллиона.
«Цена явно завышенная. Понятно, что она условная, и торги, как говорится, уместны. Посёлок неперспективный, да и улица окраинная. До магазина и остановки «Стадион» идти далеко. Ни освещения уличного, ни подобия дороги на улице по-прежнему нет. Со времён моего детства здесь ничего не менялось. Но именно эта уходящая натура так влекла в это место, а теперь ты выискиваешь недостатки», – поймала я себя на противоречии.
Два с половиной миллиона рублей при желании мы с мужем могли бы найти, но зачем нам ветхий дом за двести километров? Открывшаяся возможность приобретения и очевидная бессмысленность этой покупки совершенно сбили меня с толку. Я поспешила за калитку не попрощавшись. Для вида сфотографировала на телефон объявление, понимая, что оно мне не пригодится. Заезжать к подруге расхотелось, отъезд из родного посёлка в этот раз напоминал побег.
«Двор, запущен, дом на ладан дышит, наших сил едва хватает раз в пять лет выбраться в эти края на могилки» – оправдывала я себя всю обратную дорогу в город. Но доводы здравого смысла, напротив, только усиливали ощущение свершающегося во мне вероотступничества. «В Уголовном Кодексе статья есть «оставление человека в беспомощном состоянии». «Могла, но не сделала», – восставала душа против разума. Дом воспринимался мной как существо живое, одушевлённое, испытывавшее страх перед неизвестностью. «Не тянитесь, к прошлому, не стоит. Всё иным покажется сейчас. Пусть хотя бы что-нибудь святое неизменным остаётся в нас», – повторяла я про себя строки, рождённые чужим печальным опытом, силясь заглушить чувство вины перед отчим домом. Приснится мне он ещё хоть когда-нибудь?
Давно уже нет в живых моих родителей, ушла из жизни сестра, с которой мы с малых лет хозяйничали по дому и двору. Родители были вечно заняты домашним хозяйством и огородами. До их возвращения с работы мы старались устранить последствия безудержных детских забав и выполнить все поручения по дому, что удавалось не всегда. На этот раз меня встретил обломок ручки от зонтика, запиравший снаружи слуховое окно. Чудом уцелел он с тех пор, когда мы пытались пилотировать с крыши дома под куполом зонта. Ни разу на моей памяти этот старинный чёрный зонт с ручкой из сандалового дерева не использовался домочадцами по прямому назначению. До сих пор мучаюсь вопросом о том, откуда столь изящная вещь появилась в нашей семье, и ретуширую по утрам шрам над правой бровью, оставшийся после «полёта» с крыши. Купол зонта отделился и воспарил, а я рухнула в куст сирени с ручкой-тростью.
Милых примет прошлого, открывавшихся мне всякий раз в редкие минуты свидания с двором и домом, хватало, чтобы восстановить в душе равновесие. «Пока стоит на земле дом моего детства, я не чувствую своего возраста. Здесь мое место силы», – убеждала я себя, возвращаясь обновлённой из однодневных редких поездок в родные края, как из продолжительного отпуска.
Наш постаревший, вросший в землю дом под железной крышей, обитый новыми хозяевами пластиковыми панелями, приходил ко мне в снах только в прежнем своём виде. С просторными, почти пустыми комнатами, по которым мы катались по кругу на велосипеде, с настежь распахнутым в старый фруктовый сад окном. Через него детьми мы частенько выпрыгивали, чтобы сократить путь до дощатого туалета или выбраться со двора на улицу незамеченными. С тех пор одна из створок окна так и осталась скособоченной. На давильном прессе, от которого остался теперь только ржавый металлический штырь, мы катали друг друга, как на карусели. Видно, крепко вогнали его в землю, раз новые хозяева до сих пор не могут извлечь это опасное препятствие.
Если снился дом, я знала, что сон – вещий. Содержание сна запомнить не удавалось, но послевкусие сохранялось. Поразительно, но в течение ближайшей пары дней я наяву испытывала, в точности до мельчайших нюансов, те же чувства, что и во сне. Как будто мой старый дом заранее подготавливал меня к событиям, в том числе и неприятным. Эти «подсказки» со временем стал учитывать и мой муж, не верящий в вещие сны.
Городская квартира, в которой много лет проживает моя семья, ни разу за мою долгую жизнь почему-то так мне и не приснилась. Будто это не очаг, а всего лишь объект недвижимости, о котором вспоминаешь, когда приходит время платить налог. Со старым же отчим домом пуповина с годами только крепчала. А ведь утром, после выпускного вечера, полвека назад, я уходила из него с твёрдым намерением никогда больше сюда не возвращаться. Родительскую семью нельзя было назвать дружной и счастливой. Но дом меня не отпускал.
Нынешним летом, позвонила подруга детства и между прочим сообщила: «Твою родину выставили на продажу». Хотя умом я давно понимала, что дом не мой, а чужой, меня охватила паника. Чтобы как-то отделаться от нахлынувшей тревоги, уговорила супруга съездить в ближайший выходной в Предгорье.
На калитке была прибита табличка с номером сотового телефона. Нынче не принято писать «Продается», достаточно номера для связи. Человек, запустивший меня в дом, оказался квартирантом. Судя по его репликам, скорая продажа дома была ему невыгодна. Жилец заявил, что подвал под домом непутёвый, а большая комната вообще непригодна для житья. С трудом сдержала себя, чтобы не обнаружить, что дом этот мне не чужой. О каждом его уголке я могла бы рассказать этому критику множество бесценных подробностей. Например, почему в самой большой комнате пол цементный. Да потому, что каждую осень вся она заполнялась корзинами с виноградом. По вечерам всей семьёй вместе с соседями, которые приходили на помощь, мы обрывали с виноградных гроздей «бубочки» на вино. Работа эта занимала месяца полтора, случалось, что под корзинами образовывались лужицы виноградного сусла, и на умопомрачительный запах «изабеллы» слеталось множество пчёл и ос. Однажды оса укусила меня за язык, и несколько дней я не ходила в школу, потому что толком не могла говорить. Даже теперь, спустя столько лет, окраска пола неровная: от светло-серой до темно-фиолетовой. В один из таких вечеров вместе с моей подругой, устав от однообразного занятия, мы сочинили поэму, героями которой стали жители нашей улицы.
Наша Лида так красива
У неё фигурка – сила
Носик длинный не беда
Словом, девка – хоть куда!
Рассказ о внучке, повторяемый ежедневно соседкой бабой Леной Григорянц, переправленный нами в незамысловатое четверостишье, по сей день остаётся в памяти моих сверстников, когда мы вспоминаем обитателей нашего кутка.
Не менее колоритный герой улицы и нашей поэмы – дядя Толя по кличке «Мустафа», который большую часть жизни провел в тюрьме.
Вот остановка «Стадион»
Двери настежь, вылазьте вон!
В автобусе том прикатил Мустафа,
А с ним его новая жена.
Красотка одета по-модному очень,
Гофре разошлась…
Но кофточка!
Впрочем, рассказывать дальше не станем,
Так как вы её видели сами…
Ни одна встреча с выпускниками нашей школы не обходится без цитирования строк из этой поэмы. Что называется, она ушла в народ. Несмотря на юмористический склад поэмы, все её герои были горды безмерно тем, что удостоились внимания авторов. Свои первые трудовые я заработала вместе с подругой в восьмидесятых, выступая с этой поэмой перед повзрослевшими одноклассниками «нашей Лиды». Три рубля за выход были для нас неслыханным богатством. На первый гонорар в четвёртом классе я купила себе вьетнамские кеды для уроков физкультуры, которые тогда только входили в моду.
«Именно в этом углу самой прохладной в доме комнаты с цементным полом полвека назад торчали наши белобрысые макушки из-за огромных корзин с виноградом, когда мы сочиняли поэму», – отметила я, попав наконец-то в сам дом под видом покупательницы. А спустя годы я с удивлением узнала, что Анатолий Демкин – «Мустафа» штурмовал с десантом Цезаря Куникова «Малую землю» в Новороссийске. До сих пор пытаюсь соединить в своём сознании эти два образа и корю себя за детское нелюбопытство.
– Сколько просят хозяева, – скрывая дрожь в голосе, спросила я у неряшливо одетого, давно не бритого парня, которого заметно тяготила роль посредника.
– Два с половиной миллиона.
«Цена явно завышенная. Понятно, что она условная, и торги, как говорится, уместны. Посёлок неперспективный, да и улица окраинная. До магазина и остановки «Стадион» идти далеко. Ни освещения уличного, ни подобия дороги на улице по-прежнему нет. Со времён моего детства здесь ничего не менялось. Но именно эта уходящая натура так влекла в это место, а теперь ты выискиваешь недостатки», – поймала я себя на противоречии.
Два с половиной миллиона рублей при желании мы с мужем могли бы найти, но зачем нам ветхий дом за двести километров? Открывшаяся возможность приобретения и очевидная бессмысленность этой покупки совершенно сбили меня с толку. Я поспешила за калитку не попрощавшись. Для вида сфотографировала на телефон объявление, понимая, что оно мне не пригодится. Заезжать к подруге расхотелось, отъезд из родного посёлка в этот раз напоминал побег.
«Двор, запущен, дом на ладан дышит, наших сил едва хватает раз в пять лет выбраться в эти края на могилки» – оправдывала я себя всю обратную дорогу в город. Но доводы здравого смысла, напротив, только усиливали ощущение свершающегося во мне вероотступничества. «В Уголовном Кодексе статья есть «оставление человека в беспомощном состоянии». «Могла, но не сделала», – восставала душа против разума. Дом воспринимался мной как существо живое, одушевлённое, испытывавшее страх перед неизвестностью. «Не тянитесь, к прошлому, не стоит. Всё иным покажется сейчас. Пусть хотя бы что-нибудь святое неизменным остаётся в нас», – повторяла я про себя строки, рождённые чужим печальным опытом, силясь заглушить чувство вины перед отчим домом. Приснится мне он ещё хоть когда-нибудь?
Галина ВИНОГРАДОВА
~
Давно не бывал я в Донбассе…
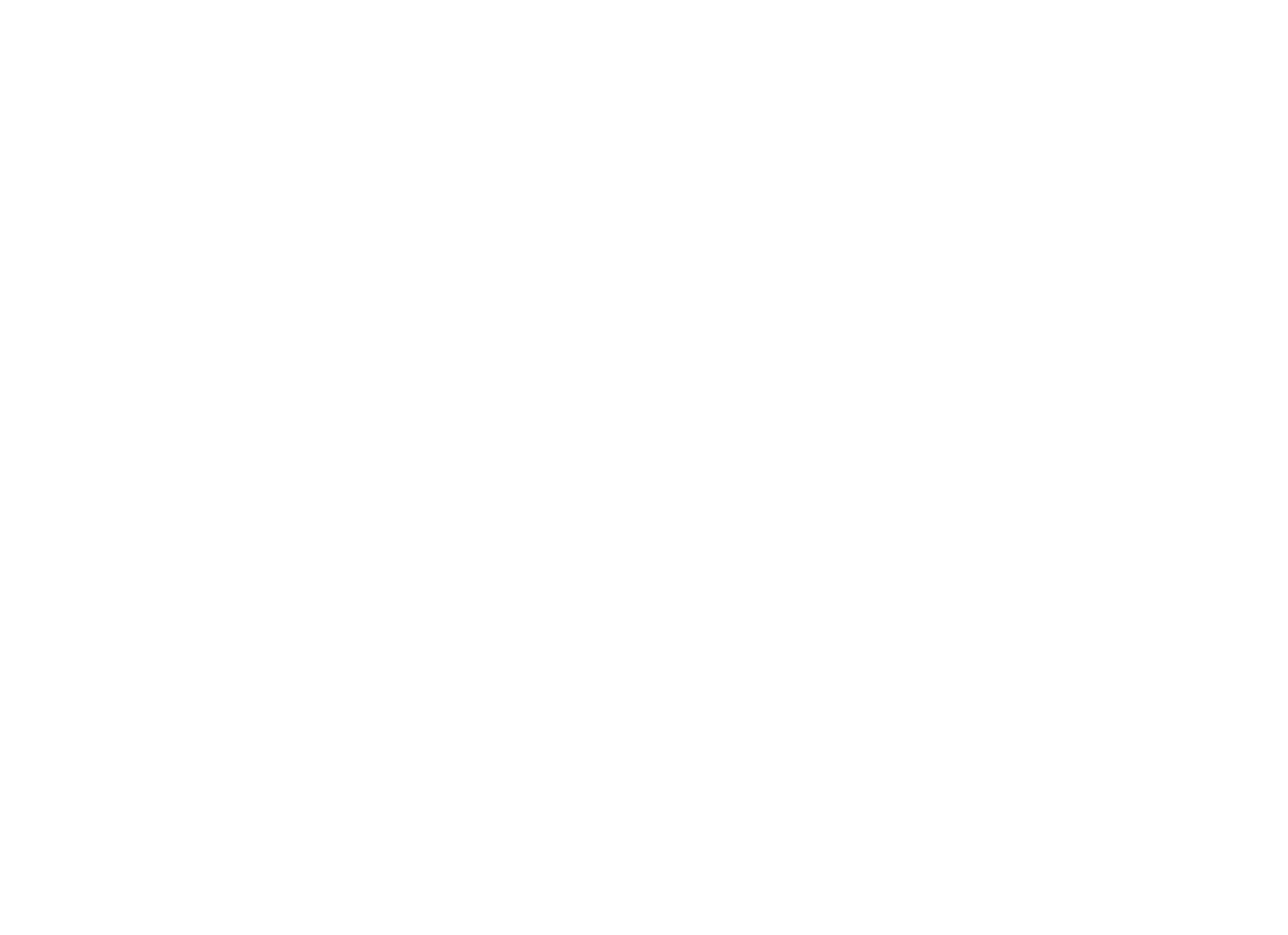
Пётр ТКАЧЕНКО
Он встретился с ней снова через многие и многие годы, почти целую жизнь спустя. Встретился неожиданно, нежданно-негаданно, в интернете, на сайте «Одноклассники». По фотографии там размещённой узнал её сразу, хотя трудно было поверить и представить, что это и есть она, его одноклассница Наташка Соколова. То ли седая, то ли такая же русовато-пепельная, какой и была в юности.
Поначалу эта нечаянная встреча с ней его не взволновала. Ведь столько времени прошло, более сорока лет. Столько произошло в его жизни, в стране, да и в мире. Да что там, прошла основная и большая часть жизни. И сам он, казалось, был уже совершенно другим.
Вот уже прошло более десяти лет, как он уволился из армии. Как офицер, полковник в пятьдесят лет ушёл в запас, а теперь уже – и в отставку. Иногда, конечно, вспоминал прожитое. Но оно было таким далёким и таким заслонённым новыми событиями, что он ловил себя на странной мысли, что всё это было как будто и не с ним, словно оно ему уже не принадлежало.
Столько встреч было за прошедшие годы, в том числе и с теми, с кем знался в юности. Но они ни к чему не обязывали, а потому проходили, не задевая его души и сознания. А тут всё было иначе. Проходило время, и он снова возвращался к этой нечаянной, вроде бы и вовсе случайной встрече с ней. В памяти всплывало то, что, казалось, уже никогда не вспомнится.
Они обменялись телефонами. И она тут же позвонила первой. Что его поразило, так это будничность их пока заочной встречи. Словно и не было этих многих лет, их разделявших.
– Привет! Ну что, узнал?
– Естественно, узнал.
Она, волнуясь, рассказала ему о себе. После школы уехала из родной кубанской станицы Н. поступать в пищевой техникум, в Донецк. Там, в Донбассе, и прошла, по сути, вся её жизнь. Там и теперь она жила одиноко и неприметно. Муж попался простой, покладистый и работящий, со временем построили свой дом. Как ей и мечталось – из белого кирпича, с летней кухней и другими постройками. Казалось, что теперь только и жить. Но не довелось. Во время срочной службы в армии муж получил какое-то каверзное ранение, которое и догнало его в пятьдесят лет. Дети – сын и дочь – выросли и разъехались. Так она осталась одна. Общалась разве только с немногими ровесницами да с соседями. И разводила цветы, чем увлекалась основательно. Так, для души. Неужели это и было то, о чём мечталось ей в суматошной юности, когда, казалось, что всё самое дорогое и драгоценное мелькает где-то впереди, и жизни этой не будет, и не может быть конца?..
А ему теперь вспоминалась их короткая, как тогда казалось, дружба. Они обратили внимание друг на друга уже перед самым выпуском из школы. А после выпускного вечера оказались вместе. Это был такой волнующий, чудесный и даже волшебный вечер, более неповторимый, когда каждому хотелось остаться с кем-то наедине, надолго, а может быть и на всю жизнь. Он вызвался проводить её по тёмным станичным улицам. Было ясно, что предстоит им бродить по ночным улицам станицы до утра, прощаясь с юностью. Не сговариваясь, пошли по улице, выходящей в степь.
Она была в белом с вырезом и короткими рукавами платье. По моде того времени – в коротком платье, обнажавшем её полные колени. Белые босоножки она сняла и шла, слегка помахивая ими. Сразу за станицей начиналось уже скошенное то ли пшеничное, то ли ячменное поле – тут и там с мерцающими в сумраке золотистыми копнами соломы. Под одной копной они присели не потому, что устали, а потому, что и далее было то же поле с копнами, и идти было некуда и незачем. Они прижались друг к другу с тем первоначальным трепетом, какой бывает только однажды. Он целовал её лицо и волосы, и она, казалось, была готова на всё. А он, волнуясь, чувствовал, что улетает в какую-то беспредельную даль. Но его удерживала какая-то неопределённость, от которой он не мог освободиться – так ведь не может быть всегда. А ему предстояло скоро уезжать из станицы. И кто знает, – может быть навсегда…
Они не слышали, как в станице пропели третьи петухи, как у ближайших хат в купах цветущей белой акации заворковали горлицы. Пробудились только от лязгающих металлических ударов где-то совсем рядом. Это хозяйка с ближайшего двора привела на длинной верёвке телёнка и забивала в землю шкворень, препиная его на тырле…
В станицу возвращались, когда уже совсем рассвело. Сизая полоска тумана змеилась вдоль крайних хат. Становилось зябко то ли от волнения, то ли от ночной прохлады. Шли, взявшись за руки. Из станицы навстречу им дохнуло душистым, сладковатым запахом цветущей белой акации.
Шли молча. И только у её дома она спросила:
– Когда ты уезжаешь?
– Через две недели, – глухо ответил он.
Спросила, хотя и знала о том, что он поступает в военное училище, и вскоре должен был уехать во Владикавказ сдавать вступительные экзамены. У калитки остановились. Он наклонился к ней. Она прикрыла глаза, видимо, полагая, что он её поцелует, а он погладил её по волосам, выбирая запутавшиеся в них еле различимые на их светлом фоне соломинки.
Эти две недели они, по сути, не расставались. Бродили по станице до глубокой ночи. А потом он ей сказал:
– Завтра рейсовым автобусом я еду в Краснодар, а оттуда – во Владикавказ.
– Я приду проводить тебя, – вызвалась она.
– Автобус ранний.
– Ничего, я проснусь.
Она пришла к автобусу. Это была их последняя встреча. Больше они не виделись. Они ничего друг другу не обещали, не давали никаких клятв. Только когда объявили посадку в автобус, он, поднявшись уже на ступеньки автобуса, обернулся и, шутя, погрозив ей пальцем, сказал:
– Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…
Он поступил в военное училище. Первое время они переписывались. Она высылала ему свои фотографии с короткими подписями «на долгую память», тем самым желая ему понравиться и давая знать, что она хочет быть с ним. Он тоже выслал ей фотографию в курсантской форме с официальной подписью «курсант Роман Бережной», тем самым давая ей знать, и как ему тогда казалось, что он уже не принадлежит себе.
Но их переписка как-то неожиданно и бесповоротно оборвалась. Его младшая сестра Света написала ему: «Не хочу быть причиной в ваших отношениях, и пойми меня правильно, но, как Наташка, так девушки своих парней не ждут…» Память оказалась совсем недолгой.
А потом были многие годы, переполненные службой и заботами. И вроде бы он забыл о ней навсегда. До этой нечаянной встречи в интернете… А теперь не мог решить для себя со всей определённостью, что в большей мере повлияло на то, что этот неведомый ему Донбасс, где он никогда не бывал, так прочно вошёл в его жизнь: то ли то, что там жила она, можно сказать, его первая любовь, его одноклассница, то ли то, что Донбасс вот уже несколько лет как был у всех на устах, где шла тихая, а теперь уже настоящая война.
И он всё больше и больше понимал, что Донбасс для него был не только городом, областью и республикой, таковым он не мог его представить, так как никогда его не видел. Донбасс становился для него совсем иной величиной общероссийского, общенародного значения. Там шла настоящая война за само существование России, за новую пробуждающуюся страну после её криминального погрома девяностых годов. Он уже различал, уже видел тех настоящих, мужественных людей, способных отстоять и возродить и Донбасс, и Россию. Даже казалось, что Донбасс теперь более русский, чем сама Россия, что оттуда начнётся восстановление и возрождение страны.
И это суровое название, имя – Донбасс – становилось для него таким благозвучным и певучим, которое хотелось повторять без конца – Донбасс, Донбасс… Вдруг вспомнилась, каким-то образом всплыла в памяти песня, слышанная ещё в юности. Теперь все его думы и о Донбассе, и о ней, его однокласснице, были как бы на фоне этой давней песни:
Давно не бывал я в Донбассе,
Тянуло в иные края,
Туда, где навеки осталась в запасе
Счастливая юность моя…
И вдруг в какой-то момент словно некая неведомая сила пронзила его, и он не мог не спросить самого себя: а почему он до сих пор там не побывал? В последние годы он работал в военном аналитическом центре. По долгу службы был во многих городах и регионах, а вот в Донбассе за все эти годы так и не довелось побывать. Уже сложилось целое народное движение, когда волонтёры, чуткие и честные люди, понимающие, что над всей нашей жизнью, над каждым из нас, уже нависла смертельная опасность, прилагают неимоверные усилия, чтобы оказать помощь фронту, воюющим регионам, а он как бы остался в стороне, на обочине, вне этого драгоценного движения. Ну да, пенсионер, но ведь не совсем же ещё старик, не из тех ещё, кто с гаснущим взором и тускнеющей памятью равнодушно наблюдает за происходящим вокруг. И он решил наконец-то поехать в Донбасс. Позвонил Наталье и сказал ей, что у него намечается оказия с волонтёрами, и он будет в Донецке. Дабы она не подумала о том, что это он только ради неё едет в опасный, воюющий регион.
Как только он окончательно решил, что ему надо, крайне необходимо ехать в Донецк, разволновался, как в молодости. Он уже думал, что его сердце позабыло эту трудную способность страдать, но оказалось, что нет. А может быть, на него действовала такая бурная весна, как-то вдруг неожиданно наступившая.
Он достал из шкафа свою уже давно забытую полевую камуфляжную форму ещё прежнего образца. Разыскал видавший виды рюкзак, уже выгоревший и из защитного цвета превратившийся в желтовато-серый. Туда, где идёт война, надо было собраться соответственно.
Удобнее всего было бы найти волонтёров-попутчиков и вместе с ними отправиться в путь. Может быть, в чём-то по возможности помочь им. И вообще это были надёжные люди. С такими его поездка, столь много для него значащая, уж точно была бы успешной.
А может быть, дело было вовсе не в этом, не только в ней, его однокласснице, которую он и вовсе было забыл, и не в этой буйной весне. А в его возрасте. Видимо, пришло время оглянуться на прожитое и пережитое. Так сказать, подвести итоги, ревниво и строго пересмотреть свои скудные пожитки. Так было ведь всегда, испокон веку, во всех поколениях. Ведь прожитое было и грозным, и трагическим. Там было немало действительно замечательных людей, его ровесников, в чьём личном благородстве и мужестве не было оснований сомневаться. И вот пришло время ответить прежде всего самому себе, а также детям и внукам своим, в каких грандиозных делах, довелось участвовать, что же такое небывалое сотворено нами, какую лепту внесли в общее движение жизни, в развитие страны и в просвещение людей?..
Поначалу эта нечаянная встреча с ней его не взволновала. Ведь столько времени прошло, более сорока лет. Столько произошло в его жизни, в стране, да и в мире. Да что там, прошла основная и большая часть жизни. И сам он, казалось, был уже совершенно другим.
Вот уже прошло более десяти лет, как он уволился из армии. Как офицер, полковник в пятьдесят лет ушёл в запас, а теперь уже – и в отставку. Иногда, конечно, вспоминал прожитое. Но оно было таким далёким и таким заслонённым новыми событиями, что он ловил себя на странной мысли, что всё это было как будто и не с ним, словно оно ему уже не принадлежало.
Столько встреч было за прошедшие годы, в том числе и с теми, с кем знался в юности. Но они ни к чему не обязывали, а потому проходили, не задевая его души и сознания. А тут всё было иначе. Проходило время, и он снова возвращался к этой нечаянной, вроде бы и вовсе случайной встрече с ней. В памяти всплывало то, что, казалось, уже никогда не вспомнится.
Они обменялись телефонами. И она тут же позвонила первой. Что его поразило, так это будничность их пока заочной встречи. Словно и не было этих многих лет, их разделявших.
– Привет! Ну что, узнал?
– Естественно, узнал.
Она, волнуясь, рассказала ему о себе. После школы уехала из родной кубанской станицы Н. поступать в пищевой техникум, в Донецк. Там, в Донбассе, и прошла, по сути, вся её жизнь. Там и теперь она жила одиноко и неприметно. Муж попался простой, покладистый и работящий, со временем построили свой дом. Как ей и мечталось – из белого кирпича, с летней кухней и другими постройками. Казалось, что теперь только и жить. Но не довелось. Во время срочной службы в армии муж получил какое-то каверзное ранение, которое и догнало его в пятьдесят лет. Дети – сын и дочь – выросли и разъехались. Так она осталась одна. Общалась разве только с немногими ровесницами да с соседями. И разводила цветы, чем увлекалась основательно. Так, для души. Неужели это и было то, о чём мечталось ей в суматошной юности, когда, казалось, что всё самое дорогое и драгоценное мелькает где-то впереди, и жизни этой не будет, и не может быть конца?..
А ему теперь вспоминалась их короткая, как тогда казалось, дружба. Они обратили внимание друг на друга уже перед самым выпуском из школы. А после выпускного вечера оказались вместе. Это был такой волнующий, чудесный и даже волшебный вечер, более неповторимый, когда каждому хотелось остаться с кем-то наедине, надолго, а может быть и на всю жизнь. Он вызвался проводить её по тёмным станичным улицам. Было ясно, что предстоит им бродить по ночным улицам станицы до утра, прощаясь с юностью. Не сговариваясь, пошли по улице, выходящей в степь.
Она была в белом с вырезом и короткими рукавами платье. По моде того времени – в коротком платье, обнажавшем её полные колени. Белые босоножки она сняла и шла, слегка помахивая ими. Сразу за станицей начиналось уже скошенное то ли пшеничное, то ли ячменное поле – тут и там с мерцающими в сумраке золотистыми копнами соломы. Под одной копной они присели не потому, что устали, а потому, что и далее было то же поле с копнами, и идти было некуда и незачем. Они прижались друг к другу с тем первоначальным трепетом, какой бывает только однажды. Он целовал её лицо и волосы, и она, казалось, была готова на всё. А он, волнуясь, чувствовал, что улетает в какую-то беспредельную даль. Но его удерживала какая-то неопределённость, от которой он не мог освободиться – так ведь не может быть всегда. А ему предстояло скоро уезжать из станицы. И кто знает, – может быть навсегда…
Они не слышали, как в станице пропели третьи петухи, как у ближайших хат в купах цветущей белой акации заворковали горлицы. Пробудились только от лязгающих металлических ударов где-то совсем рядом. Это хозяйка с ближайшего двора привела на длинной верёвке телёнка и забивала в землю шкворень, препиная его на тырле…
В станицу возвращались, когда уже совсем рассвело. Сизая полоска тумана змеилась вдоль крайних хат. Становилось зябко то ли от волнения, то ли от ночной прохлады. Шли, взявшись за руки. Из станицы навстречу им дохнуло душистым, сладковатым запахом цветущей белой акации.
Шли молча. И только у её дома она спросила:
– Когда ты уезжаешь?
– Через две недели, – глухо ответил он.
Спросила, хотя и знала о том, что он поступает в военное училище, и вскоре должен был уехать во Владикавказ сдавать вступительные экзамены. У калитки остановились. Он наклонился к ней. Она прикрыла глаза, видимо, полагая, что он её поцелует, а он погладил её по волосам, выбирая запутавшиеся в них еле различимые на их светлом фоне соломинки.
Эти две недели они, по сути, не расставались. Бродили по станице до глубокой ночи. А потом он ей сказал:
– Завтра рейсовым автобусом я еду в Краснодар, а оттуда – во Владикавказ.
– Я приду проводить тебя, – вызвалась она.
– Автобус ранний.
– Ничего, я проснусь.
Она пришла к автобусу. Это была их последняя встреча. Больше они не виделись. Они ничего друг другу не обещали, не давали никаких клятв. Только когда объявили посадку в автобус, он, поднявшись уже на ступеньки автобуса, обернулся и, шутя, погрозив ей пальцем, сказал:
– Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…
Он поступил в военное училище. Первое время они переписывались. Она высылала ему свои фотографии с короткими подписями «на долгую память», тем самым желая ему понравиться и давая знать, что она хочет быть с ним. Он тоже выслал ей фотографию в курсантской форме с официальной подписью «курсант Роман Бережной», тем самым давая ей знать, и как ему тогда казалось, что он уже не принадлежит себе.
Но их переписка как-то неожиданно и бесповоротно оборвалась. Его младшая сестра Света написала ему: «Не хочу быть причиной в ваших отношениях, и пойми меня правильно, но, как Наташка, так девушки своих парней не ждут…» Память оказалась совсем недолгой.
А потом были многие годы, переполненные службой и заботами. И вроде бы он забыл о ней навсегда. До этой нечаянной встречи в интернете… А теперь не мог решить для себя со всей определённостью, что в большей мере повлияло на то, что этот неведомый ему Донбасс, где он никогда не бывал, так прочно вошёл в его жизнь: то ли то, что там жила она, можно сказать, его первая любовь, его одноклассница, то ли то, что Донбасс вот уже несколько лет как был у всех на устах, где шла тихая, а теперь уже настоящая война.
И он всё больше и больше понимал, что Донбасс для него был не только городом, областью и республикой, таковым он не мог его представить, так как никогда его не видел. Донбасс становился для него совсем иной величиной общероссийского, общенародного значения. Там шла настоящая война за само существование России, за новую пробуждающуюся страну после её криминального погрома девяностых годов. Он уже различал, уже видел тех настоящих, мужественных людей, способных отстоять и возродить и Донбасс, и Россию. Даже казалось, что Донбасс теперь более русский, чем сама Россия, что оттуда начнётся восстановление и возрождение страны.
И это суровое название, имя – Донбасс – становилось для него таким благозвучным и певучим, которое хотелось повторять без конца – Донбасс, Донбасс… Вдруг вспомнилась, каким-то образом всплыла в памяти песня, слышанная ещё в юности. Теперь все его думы и о Донбассе, и о ней, его однокласснице, были как бы на фоне этой давней песни:
Давно не бывал я в Донбассе,
Тянуло в иные края,
Туда, где навеки осталась в запасе
Счастливая юность моя…
И вдруг в какой-то момент словно некая неведомая сила пронзила его, и он не мог не спросить самого себя: а почему он до сих пор там не побывал? В последние годы он работал в военном аналитическом центре. По долгу службы был во многих городах и регионах, а вот в Донбассе за все эти годы так и не довелось побывать. Уже сложилось целое народное движение, когда волонтёры, чуткие и честные люди, понимающие, что над всей нашей жизнью, над каждым из нас, уже нависла смертельная опасность, прилагают неимоверные усилия, чтобы оказать помощь фронту, воюющим регионам, а он как бы остался в стороне, на обочине, вне этого драгоценного движения. Ну да, пенсионер, но ведь не совсем же ещё старик, не из тех ещё, кто с гаснущим взором и тускнеющей памятью равнодушно наблюдает за происходящим вокруг. И он решил наконец-то поехать в Донбасс. Позвонил Наталье и сказал ей, что у него намечается оказия с волонтёрами, и он будет в Донецке. Дабы она не подумала о том, что это он только ради неё едет в опасный, воюющий регион.
Как только он окончательно решил, что ему надо, крайне необходимо ехать в Донецк, разволновался, как в молодости. Он уже думал, что его сердце позабыло эту трудную способность страдать, но оказалось, что нет. А может быть, на него действовала такая бурная весна, как-то вдруг неожиданно наступившая.
Он достал из шкафа свою уже давно забытую полевую камуфляжную форму ещё прежнего образца. Разыскал видавший виды рюкзак, уже выгоревший и из защитного цвета превратившийся в желтовато-серый. Туда, где идёт война, надо было собраться соответственно.
Удобнее всего было бы найти волонтёров-попутчиков и вместе с ними отправиться в путь. Может быть, в чём-то по возможности помочь им. И вообще это были надёжные люди. С такими его поездка, столь много для него значащая, уж точно была бы успешной.
А может быть, дело было вовсе не в этом, не только в ней, его однокласснице, которую он и вовсе было забыл, и не в этой буйной весне. А в его возрасте. Видимо, пришло время оглянуться на прожитое и пережитое. Так сказать, подвести итоги, ревниво и строго пересмотреть свои скудные пожитки. Так было ведь всегда, испокон веку, во всех поколениях. Ведь прожитое было и грозным, и трагическим. Там было немало действительно замечательных людей, его ровесников, в чьём личном благородстве и мужестве не было оснований сомневаться. И вот пришло время ответить прежде всего самому себе, а также детям и внукам своим, в каких грандиозных делах, довелось участвовать, что же такое небывалое сотворено нами, какую лепту внесли в общее движение жизни, в развитие страны и в просвещение людей?..
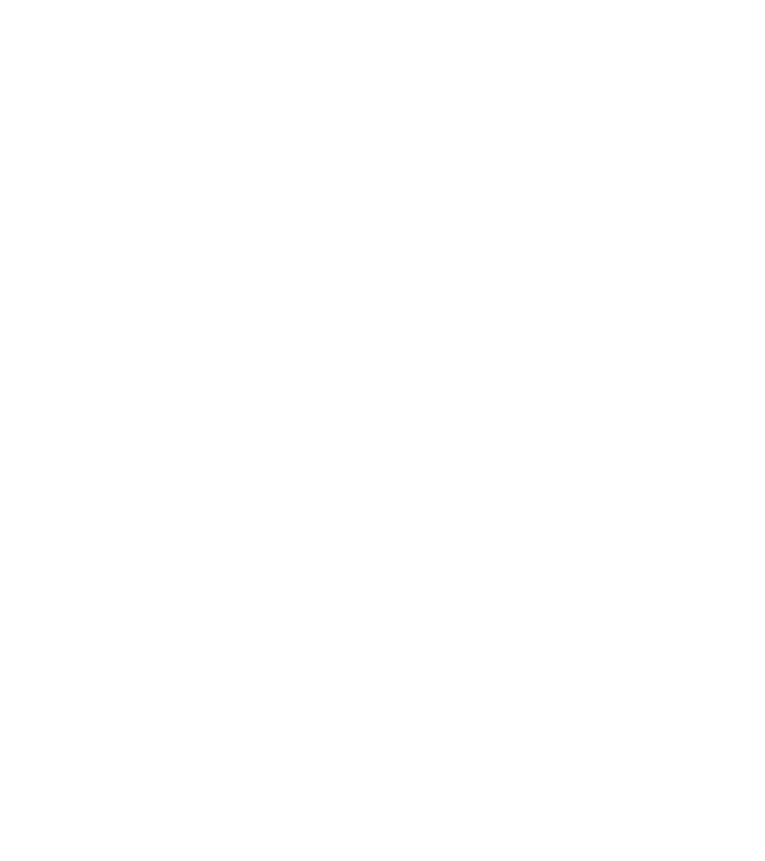
Тут и начинались мучительные сомнения, от которых никак не уйти и никуда не спрятаться. А что можно сказать? Получалась картина не участия в грандиозных свершениях, а жалкое самооправдание, ибо душа не может смириться с тем, что всё было напрасным. Ведь как ни крути, итог эпохи, в которую довелось жить, оказался печальным. Не стало той страны и в том её виде, какой она досталась от отцов, от родителей. Теперь ведь не скажешь, что виноваты «они», а не «мы», ибо каждый человек, приходящий в этот мир, ответственен за всё происходящее. Парадоксальное сложилось положение – каждый в отдельности вроде бы ни в чём не виновен, а результат печален…
Как помнилось, в памятные даты в школу всегда приглашали ветеранов, которые рассказывали об их участии в Великой войне. И они, дети, с трепетом смотрели на них, увенчанных орденами и медалями, как на героев и небожителей. Ведь за ними была Великая Победа! А что мог рассказать он? Да, воевал в Афгане, в других конфликтах… И он избегал таких встреч со школьниками, даже когда его приглашали.
И возникали трудные, неразрешимые вопросы: а так ли он жил, а могло ли быть всё иначе? А правильный ли он сделал выбор там, в юности? Было ли бы иначе, если бы он не расстался с Наташкой? И главное: дело не только в том, – так ли он жил, но как быть теперь, как жить дальше? Начать всё снова невозможно. Так не бывает. Но в таком возрасте люди знать этого не хотят. Как болящий ожидает здоровья, так и несчастный счастья – до конца.
А ещё он вынес из прожитого то, что многие люди, если не большинство из них, не могут, не умеют жить в своём настоящем, в своём времени. Они или убегают в невозвратное прошлое, или устремляются в неопределённое, никому пока не известное будущее. Лишь бы не остаться наедине со своим временем, со своей эпохой, какой бы она ни была. Видимо, жить в настоящем, в своём времени так же трудно, как и в своём возрасте. Для этого ведь надо уверовать в то, что каждый возраст прекрасен. А это даётся не каждому.
В конце концов, он пришёл к выводу, что ему надо обязательно съездить в Донецк для того, чтобы встретиться с ней, взглянуть на неё, поговорить с ней, и тогда, как ему казалось, всё само собой разрешится. Все мучившие его вопросы отпадут. Он увидит её, и станет ясно, правильно ли он прожил или нет. Словно эта такая запоздалая встреча с ней могла убедить его окончательно в том, что никакой иной жизни, кроме нынешней, настоящей, у него нет и не могло быть…
Попутчика-волонтёра нашёл быстро. Обычно по одному они не ездили. А тут его напарник по каким-то обстоятельствам ехать не смог. А потому водитель был даже рад тому, что в последний момент нашёлся новый напарник. Крепкий парень лет сорока с чёрной, воронёной бородой, чем напоминал чеченца, хотя, как потом выяснилось, был он коренным москвичом в поколениях. Видимо, из староверов Рогожской общины. Но спрашивать его об этом он не стал.
– Артём Власов, – коротко представился он. В тёмном, нового покроя камуфляже, ладно на нём сидевшем и, видимо, уже давно не снимаемом.
На своём тёмно-синем микроавтобусе он вёз в Донецк, в госпиталь, перевязочный материал, индивидуальные пакеты, прочие необходимые для раненых препараты.
Из Москвы выехали на рассвете, дабы весь путь уложился в светлое, дневное время. Артём оказался человеком не то что общительным, но даже беспокойным, каких теперь называют пассионарными. Он ни на минуту не умолкал: или о чём-то рассказывал, расспрашивал, или напевал. А может быть, он просто опасался задремать за рулём.
Солнце взошло, а за Серпуховом начало уже припекать. По обочинам тянулись изумрудные полосы первой травы. Деревья кутались в лёгкой дымке первой зелени. Он чувствовал, как в душе его пробуждается волнение. То ли от того, что уже давно не отрывался от дома, никуда не выезжал, то ли от предстоящей встречи, представлявшейся в его сознании в смутных картинах. Наталье он не звонил уже несколько дней. Хотелось появиться у неё неожиданно. Ему казалось, что это придаст их встрече некую загадочность и таинственность. Душа его замирала в уже давно забытом трепете, словно это просыпалась в нём запоздалая и уже невозможная молодость.
На водителя Артёма, видимо, тоже действовала и эта ранняя весна, распахнувшаяся во все концы света, и эта такая значимая для него дорога. И он наконец запел, с каждым словом всё более и более вдохновляясь:
Я в весеннем лесу пил берёзовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал
Что имел – потерял, что любил не сберёг.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
И носило меня как осенний листок.
Я менял города и менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахли цветы, не блестела луна.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей.
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?..
Артём замолчал, видимо, соотнося что-то из своей жизни с тем, о чём пелось в этой песне. А он ему сказал:
– Знаешь, Артём, а мне не нравится эта песня.
– Ну почему же, Роман Сергеевич? Разве в вашей жизни не было чего-то подобного? Разве в стогу не ночевали и не носило вас по всему свету?
– И в стогу ночевал, и по свету носило, а песня почему-то не нравится. Наверное, потому, что только с возрастом начинаешь понимать, что ни зачеркнуть, ни сначала начать ничего невозможно. В том-то и суть, в том и тайна всего – в этой его невозвратности. Кто не поймёт этого вовремя, того и будет носить, как поётся в твоей песне, как осенний листок.
Остановились только в Орле. Пообедали в придорожном кафе. А от Шахт до Снежного и к Донецку ехали уже молча. Каждый думал и молчал о чём-то о своём. О том, что вот совсем рядом идёт война, что случилась она и вовсе как-то неожиданно и как бы беспричинно. Словно понарошку. Казалось, что стоит только встряхнуться, и всё куда-то исчезнет, и эта странная война прекратится. И всё вернётся в прежнее, довоенное состояние. Да и война какая-то словно не настоящая. Настоящей в ней была только смерть многих людей да руины былой жизни, теперь казавшейся такой прекрасной…
Наконец Артём спросил:
– Вы надолго в Донецк, Роман Сергеевич?
– По обстановке, но думаю, что дня на два, не больше.
– Я тоже так, – сказал Артём. – Передам людям груз в госпиталь. Может быть, там надо будет чем-то помочь, отвезти-привезти. Отдохну и – домой, в обратный путь.
Условились, что будут на связи. Но к концу второго дня по приезде Артём будет ждать его на станции Чумаково. И уже расставаясь, Артём спросил:
– А вам, собственно, куда надо?
Роман Сергеевич на какое-то время застыл в раздумье, внимательно посмотрел на Артёма, а потом сказал загадочно:
– Знал бы я сам, куда мне надо, сказал бы…
Сразу Артём и не сообразил, о чём это сказал его попутчик. Но таинственность его слов заставили его размышлять над ними. Потом уже он убедился в том, что, видно, у человека действительно была важная нужда, какая-то большая причина и задача, внешне никак не выдаваемая, чтобы вот так вдруг, уже в возрасте, под семьдесят лет, одному отправиться в опасную дорогу.
Бережному надо было найти улицу Богодатную. Она по карте-схеме находилась где-то рядом. Когда Наталья сообщала ему свой адрес, он ещё удивился тому, что, оказывается, может быть улица и с таким названием. Даже переспросил её: «Может быть, Благодатная?». «Да нет, – уточнила она, – именно Богодатная. Это частный сектор города. Найти меня тебе не составит никакого труда…»
Он замечал по самому тону из разговоров по телефону, что Наталья тоже переживает что-то подобное. Это уже не была простая любезность, а нечто большее. Может быть, даже возлагает на него запоздалые надежды. Особенно после того, как он сообщил ей, что дочку его зовут Наташей. Дело в том, что ещё тогда, в юности, во время их короткой дружбы, он как-то сказал ей, что если у него будет дочка, он назовёт её её именем. Из этого ведь только и можно было сделать вывод, что все эти многие годы он не забывал её и думал о ней. И вот, наконец-то её надежда сбывалась…
Он остановился в раздумье, по смартфону ещё раз уточнил, куда следует идти, собираясь духом перед этой такой запоздалой, необычной и, казалось, уже совершенно невозможной встречей.
Он уже не подозревал в себе и не думал о том, что может так волноваться, что сердце его ещё может так замирать и трепетать. Всё словно складывалось по той песне, помнившейся ему с юности. Эта песня прямо-таки пророчески, на удивление точно рассказывала всю его жизнь:
И вот наконец я в Донбассе,
Вот беленький домик её…
Седая хозяйка на чистой террасе
Спокойно стирает бельё.
Стою я в сторонке безмолвно,
Душа замирает в груди.
Прости меня, Ната… Наталья Петровна,
Не знаю за что, но прости.
Прости за жестокую память.
О прежних косичках твоих.
За то, что мужчины бывают с годами
Моложе ровесниц своих.
Прости за те лунные ночи,
За то, что не в этом краю
Искал и нашёл я похожую очень
На давнюю юность твою…
Песня звучала в нём, никем более не слышимая, надрывая его сердце. Он уже не сомневался в том, что вот сейчас, через каких-то полчаса, так именно всё и произойдёт. Под звуки этой песни в душе своей он и нашёл наконец-то улицу Богодатную.
Как помнилось, в памятные даты в школу всегда приглашали ветеранов, которые рассказывали об их участии в Великой войне. И они, дети, с трепетом смотрели на них, увенчанных орденами и медалями, как на героев и небожителей. Ведь за ними была Великая Победа! А что мог рассказать он? Да, воевал в Афгане, в других конфликтах… И он избегал таких встреч со школьниками, даже когда его приглашали.
И возникали трудные, неразрешимые вопросы: а так ли он жил, а могло ли быть всё иначе? А правильный ли он сделал выбор там, в юности? Было ли бы иначе, если бы он не расстался с Наташкой? И главное: дело не только в том, – так ли он жил, но как быть теперь, как жить дальше? Начать всё снова невозможно. Так не бывает. Но в таком возрасте люди знать этого не хотят. Как болящий ожидает здоровья, так и несчастный счастья – до конца.
А ещё он вынес из прожитого то, что многие люди, если не большинство из них, не могут, не умеют жить в своём настоящем, в своём времени. Они или убегают в невозвратное прошлое, или устремляются в неопределённое, никому пока не известное будущее. Лишь бы не остаться наедине со своим временем, со своей эпохой, какой бы она ни была. Видимо, жить в настоящем, в своём времени так же трудно, как и в своём возрасте. Для этого ведь надо уверовать в то, что каждый возраст прекрасен. А это даётся не каждому.
В конце концов, он пришёл к выводу, что ему надо обязательно съездить в Донецк для того, чтобы встретиться с ней, взглянуть на неё, поговорить с ней, и тогда, как ему казалось, всё само собой разрешится. Все мучившие его вопросы отпадут. Он увидит её, и станет ясно, правильно ли он прожил или нет. Словно эта такая запоздалая встреча с ней могла убедить его окончательно в том, что никакой иной жизни, кроме нынешней, настоящей, у него нет и не могло быть…
Попутчика-волонтёра нашёл быстро. Обычно по одному они не ездили. А тут его напарник по каким-то обстоятельствам ехать не смог. А потому водитель был даже рад тому, что в последний момент нашёлся новый напарник. Крепкий парень лет сорока с чёрной, воронёной бородой, чем напоминал чеченца, хотя, как потом выяснилось, был он коренным москвичом в поколениях. Видимо, из староверов Рогожской общины. Но спрашивать его об этом он не стал.
– Артём Власов, – коротко представился он. В тёмном, нового покроя камуфляже, ладно на нём сидевшем и, видимо, уже давно не снимаемом.
На своём тёмно-синем микроавтобусе он вёз в Донецк, в госпиталь, перевязочный материал, индивидуальные пакеты, прочие необходимые для раненых препараты.
Из Москвы выехали на рассвете, дабы весь путь уложился в светлое, дневное время. Артём оказался человеком не то что общительным, но даже беспокойным, каких теперь называют пассионарными. Он ни на минуту не умолкал: или о чём-то рассказывал, расспрашивал, или напевал. А может быть, он просто опасался задремать за рулём.
Солнце взошло, а за Серпуховом начало уже припекать. По обочинам тянулись изумрудные полосы первой травы. Деревья кутались в лёгкой дымке первой зелени. Он чувствовал, как в душе его пробуждается волнение. То ли от того, что уже давно не отрывался от дома, никуда не выезжал, то ли от предстоящей встречи, представлявшейся в его сознании в смутных картинах. Наталье он не звонил уже несколько дней. Хотелось появиться у неё неожиданно. Ему казалось, что это придаст их встрече некую загадочность и таинственность. Душа его замирала в уже давно забытом трепете, словно это просыпалась в нём запоздалая и уже невозможная молодость.
На водителя Артёма, видимо, тоже действовала и эта ранняя весна, распахнувшаяся во все концы света, и эта такая значимая для него дорога. И он наконец запел, с каждым словом всё более и более вдохновляясь:
Я в весеннем лесу пил берёзовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал
Что имел – потерял, что любил не сберёг.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
И носило меня как осенний листок.
Я менял города и менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахли цветы, не блестела луна.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей.
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?..
Артём замолчал, видимо, соотнося что-то из своей жизни с тем, о чём пелось в этой песне. А он ему сказал:
– Знаешь, Артём, а мне не нравится эта песня.
– Ну почему же, Роман Сергеевич? Разве в вашей жизни не было чего-то подобного? Разве в стогу не ночевали и не носило вас по всему свету?
– И в стогу ночевал, и по свету носило, а песня почему-то не нравится. Наверное, потому, что только с возрастом начинаешь понимать, что ни зачеркнуть, ни сначала начать ничего невозможно. В том-то и суть, в том и тайна всего – в этой его невозвратности. Кто не поймёт этого вовремя, того и будет носить, как поётся в твоей песне, как осенний листок.
Остановились только в Орле. Пообедали в придорожном кафе. А от Шахт до Снежного и к Донецку ехали уже молча. Каждый думал и молчал о чём-то о своём. О том, что вот совсем рядом идёт война, что случилась она и вовсе как-то неожиданно и как бы беспричинно. Словно понарошку. Казалось, что стоит только встряхнуться, и всё куда-то исчезнет, и эта странная война прекратится. И всё вернётся в прежнее, довоенное состояние. Да и война какая-то словно не настоящая. Настоящей в ней была только смерть многих людей да руины былой жизни, теперь казавшейся такой прекрасной…
Наконец Артём спросил:
– Вы надолго в Донецк, Роман Сергеевич?
– По обстановке, но думаю, что дня на два, не больше.
– Я тоже так, – сказал Артём. – Передам людям груз в госпиталь. Может быть, там надо будет чем-то помочь, отвезти-привезти. Отдохну и – домой, в обратный путь.
Условились, что будут на связи. Но к концу второго дня по приезде Артём будет ждать его на станции Чумаково. И уже расставаясь, Артём спросил:
– А вам, собственно, куда надо?
Роман Сергеевич на какое-то время застыл в раздумье, внимательно посмотрел на Артёма, а потом сказал загадочно:
– Знал бы я сам, куда мне надо, сказал бы…
Сразу Артём и не сообразил, о чём это сказал его попутчик. Но таинственность его слов заставили его размышлять над ними. Потом уже он убедился в том, что, видно, у человека действительно была важная нужда, какая-то большая причина и задача, внешне никак не выдаваемая, чтобы вот так вдруг, уже в возрасте, под семьдесят лет, одному отправиться в опасную дорогу.
Бережному надо было найти улицу Богодатную. Она по карте-схеме находилась где-то рядом. Когда Наталья сообщала ему свой адрес, он ещё удивился тому, что, оказывается, может быть улица и с таким названием. Даже переспросил её: «Может быть, Благодатная?». «Да нет, – уточнила она, – именно Богодатная. Это частный сектор города. Найти меня тебе не составит никакого труда…»
Он замечал по самому тону из разговоров по телефону, что Наталья тоже переживает что-то подобное. Это уже не была простая любезность, а нечто большее. Может быть, даже возлагает на него запоздалые надежды. Особенно после того, как он сообщил ей, что дочку его зовут Наташей. Дело в том, что ещё тогда, в юности, во время их короткой дружбы, он как-то сказал ей, что если у него будет дочка, он назовёт её её именем. Из этого ведь только и можно было сделать вывод, что все эти многие годы он не забывал её и думал о ней. И вот, наконец-то её надежда сбывалась…
Он остановился в раздумье, по смартфону ещё раз уточнил, куда следует идти, собираясь духом перед этой такой запоздалой, необычной и, казалось, уже совершенно невозможной встречей.
Он уже не подозревал в себе и не думал о том, что может так волноваться, что сердце его ещё может так замирать и трепетать. Всё словно складывалось по той песне, помнившейся ему с юности. Эта песня прямо-таки пророчески, на удивление точно рассказывала всю его жизнь:
И вот наконец я в Донбассе,
Вот беленький домик её…
Седая хозяйка на чистой террасе
Спокойно стирает бельё.
Стою я в сторонке безмолвно,
Душа замирает в груди.
Прости меня, Ната… Наталья Петровна,
Не знаю за что, но прости.
Прости за жестокую память.
О прежних косичках твоих.
За то, что мужчины бывают с годами
Моложе ровесниц своих.
Прости за те лунные ночи,
За то, что не в этом краю
Искал и нашёл я похожую очень
На давнюю юность твою…
Песня звучала в нём, никем более не слышимая, надрывая его сердце. Он уже не сомневался в том, что вот сейчас, через каких-то полчаса, так именно всё и произойдёт. Под звуки этой песни в душе своей он и нашёл наконец-то улицу Богодатную.
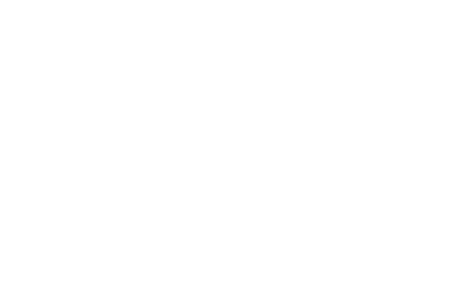
Обычная улица, скорее сельская, чем городская. С лавочками у ворот и калиток. Из-за заборов клубилась, выливаясь на улицу, цветущая сирень. Белой пеленой дома и хаты опутывал вишнёвый цвет. Под лёгким ветерком деревья смеялись и лепетали что-то молодой листвой.
Он стал искать нужный номер дома. Кажется, здесь и жила его одноклассница Наталья Петровна Соколова, давно уже – Базарова. Не слишком ли поздно он собрался в этот немыслимый путь с наивной попыткой вернуться в свою молодость или вернуть её?..
Вот и дом её. Но что это? Забор был повален, и вместо дома торчали полуразрушенные стены, лежали груды белого кирпича. Уцелели только ворота. Крашенные тёмно-коричневой краской, иссечённые осколками ворота, никуда более не ведущие, но охраняющие эти дорогие руины…
Он вошёл во двор. Там, где был палисадник, из-за груды серого битого шифера и белого кирпича испуганно выбирались на свет цветущие алые и розовые тюльпаны. А далее – каким-то чудом уцелевшая, в белой фате, невестилась цветущая вишня, вбравшаяся мов до шлюбу, но оказавшаяся теперь среди сиротливых руин как невеста, ставшая вдовой, ещё не успевшая снять фаты…
Вот и всё, что осталось от того, о чём ему в последнее время думалось и мечталось…
Не зная, как теперь быть, он вышел на улицу. Из соседнего двора вышла молодая женщина в цветастом халате. За руку она держала мальчика лет пяти. Она застыла у своих ворот, глядя на него, видно, понимая, что на руины случайно, так просто, из любопытства не приходят.
Он подошёл к этой женщине, и она, не ожидая его вопросов, сообщила:
– Обстрел был. Ракета попала прямо в дом. Наталья Петровна была в это время дома. Когда её нашли спасатели, она была ещё жива. Но до больницы не довезли. Похоронили мы её. Хорошая была у нас соседка… Помогала нам. Она ведь была одинокой. А в последнее время всё рассказывала мне, что ждёт какого-то дорогого гостя. Наш дом тоже посекло осколками.
Мальчик с любопытством смотрел на откуда-то взявшегося деда. В руке он держал прозрачный полиэтиленовый пакетик, в котором золотились, легко позванивая, автоматные гильзы… На вопрос деда, как зовут солдата, он смело ответил: «Саса».
– Это у него игрушки такие любимые, – сказала мать. – Папа наш на войне. Недавно приезжал, вот и привёз ему.
Не зная, что делать дальше, и осознавая всю непоправимость случившегося, Бережной снял из-за плеч рюкзак:
– Я тут гостинцы вёз, но опоздал… Возьмите, помяните мою Наталью Петровну… Что же тебе подарить на память, Саша? Мы ведь вряд ли когда-нибудь встретимся ещё. Ах да! – и он достал из кармана и протянул мальчику складной нож:
– Но это не игрушка, а настоящее оружие. Береги его.
Простившись с соседкой, даже не спросив, как зовут её, он пошёл назад, обратно по улице Богодатной, слегка припадая на давно ещё в Афгане раненую, но вдруг разболевшуюся ногу.
Водитель Артём уже ждал Бережного на станции Чумаково. Он издали замахал ему рукой, вышел из своего синего микроавтобуса и пошёл ему навстречу.
– Роман Сергеевич, а я, вас уже давно жду! Ну как, всё решили, со всем разобрались и управились?
– Да, Артём, всё решил и со всем управился, но только вот не знаю, так ли во всем разобрался.
– Ну тогда едем!
– Да нет, знаешь, – спокойно и твёрдо ответил Бережной, – я назад не поеду.
– То есть как? – удивился Артём. – Вы же говорили, что здесь, в Донецке, у вас нет никого из родни. И почему остаётесь, и надолго ли?
– Пока не знаю, – тихо и задумчиво ответил Бережной, – и потом вроде бы ни к чему добавил: знаешь, говорят, что пуля выбирает только виноватого… Останусь, во всяком случае, до Победы, а может быть и насовсем, навсегда…
Он стал искать нужный номер дома. Кажется, здесь и жила его одноклассница Наталья Петровна Соколова, давно уже – Базарова. Не слишком ли поздно он собрался в этот немыслимый путь с наивной попыткой вернуться в свою молодость или вернуть её?..
Вот и дом её. Но что это? Забор был повален, и вместо дома торчали полуразрушенные стены, лежали груды белого кирпича. Уцелели только ворота. Крашенные тёмно-коричневой краской, иссечённые осколками ворота, никуда более не ведущие, но охраняющие эти дорогие руины…
Он вошёл во двор. Там, где был палисадник, из-за груды серого битого шифера и белого кирпича испуганно выбирались на свет цветущие алые и розовые тюльпаны. А далее – каким-то чудом уцелевшая, в белой фате, невестилась цветущая вишня, вбравшаяся мов до шлюбу, но оказавшаяся теперь среди сиротливых руин как невеста, ставшая вдовой, ещё не успевшая снять фаты…
Вот и всё, что осталось от того, о чём ему в последнее время думалось и мечталось…
Не зная, как теперь быть, он вышел на улицу. Из соседнего двора вышла молодая женщина в цветастом халате. За руку она держала мальчика лет пяти. Она застыла у своих ворот, глядя на него, видно, понимая, что на руины случайно, так просто, из любопытства не приходят.
Он подошёл к этой женщине, и она, не ожидая его вопросов, сообщила:
– Обстрел был. Ракета попала прямо в дом. Наталья Петровна была в это время дома. Когда её нашли спасатели, она была ещё жива. Но до больницы не довезли. Похоронили мы её. Хорошая была у нас соседка… Помогала нам. Она ведь была одинокой. А в последнее время всё рассказывала мне, что ждёт какого-то дорогого гостя. Наш дом тоже посекло осколками.
Мальчик с любопытством смотрел на откуда-то взявшегося деда. В руке он держал прозрачный полиэтиленовый пакетик, в котором золотились, легко позванивая, автоматные гильзы… На вопрос деда, как зовут солдата, он смело ответил: «Саса».
– Это у него игрушки такие любимые, – сказала мать. – Папа наш на войне. Недавно приезжал, вот и привёз ему.
Не зная, что делать дальше, и осознавая всю непоправимость случившегося, Бережной снял из-за плеч рюкзак:
– Я тут гостинцы вёз, но опоздал… Возьмите, помяните мою Наталью Петровну… Что же тебе подарить на память, Саша? Мы ведь вряд ли когда-нибудь встретимся ещё. Ах да! – и он достал из кармана и протянул мальчику складной нож:
– Но это не игрушка, а настоящее оружие. Береги его.
Простившись с соседкой, даже не спросив, как зовут её, он пошёл назад, обратно по улице Богодатной, слегка припадая на давно ещё в Афгане раненую, но вдруг разболевшуюся ногу.
Водитель Артём уже ждал Бережного на станции Чумаково. Он издали замахал ему рукой, вышел из своего синего микроавтобуса и пошёл ему навстречу.
– Роман Сергеевич, а я, вас уже давно жду! Ну как, всё решили, со всем разобрались и управились?
– Да, Артём, всё решил и со всем управился, но только вот не знаю, так ли во всем разобрался.
– Ну тогда едем!
– Да нет, знаешь, – спокойно и твёрдо ответил Бережной, – я назад не поеду.
– То есть как? – удивился Артём. – Вы же говорили, что здесь, в Донецке, у вас нет никого из родни. И почему остаётесь, и надолго ли?
– Пока не знаю, – тихо и задумчиво ответил Бережной, – и потом вроде бы ни к чему добавил: знаешь, говорят, что пуля выбирает только виноватого… Останусь, во всяком случае, до Победы, а может быть и насовсем, навсегда…
Пётр ТКАЧЕНКО

